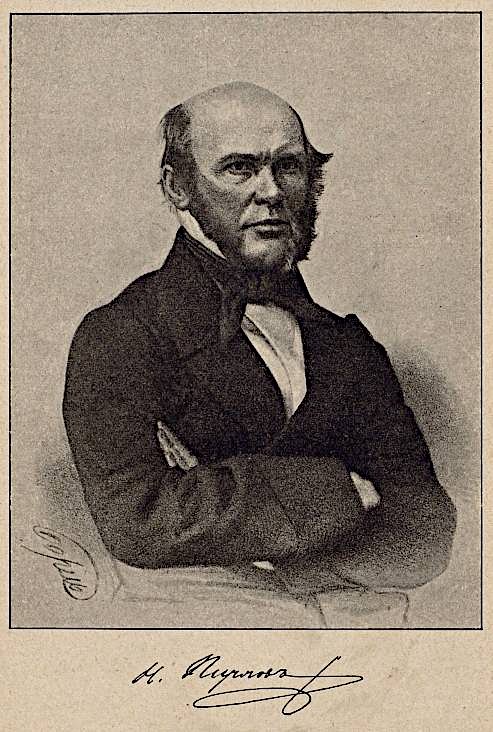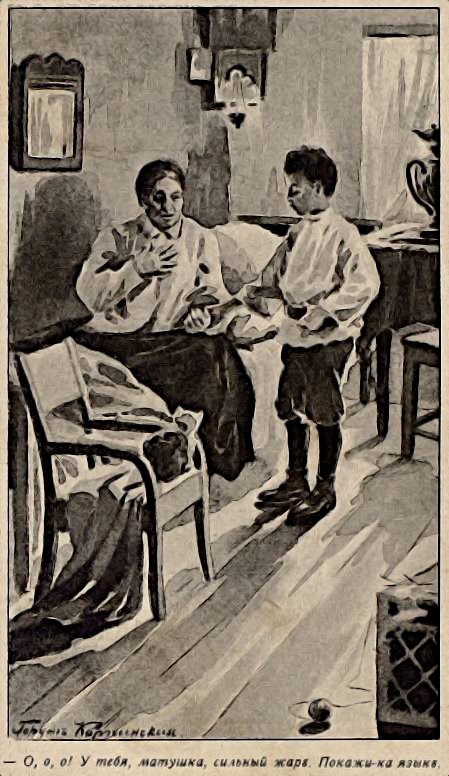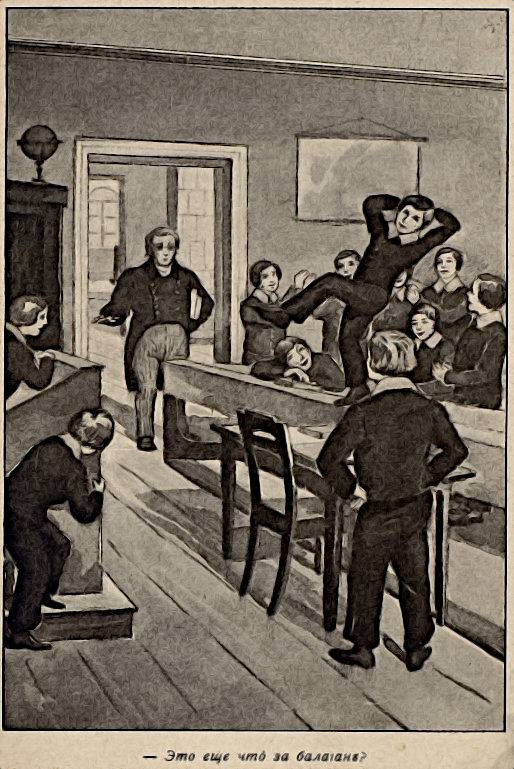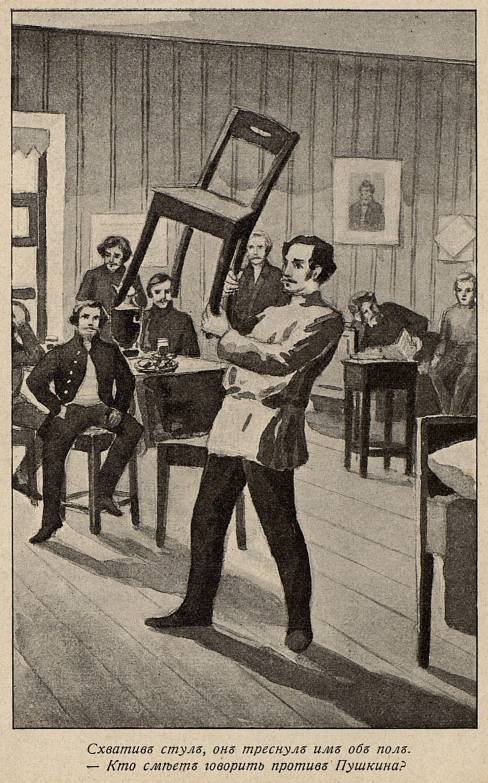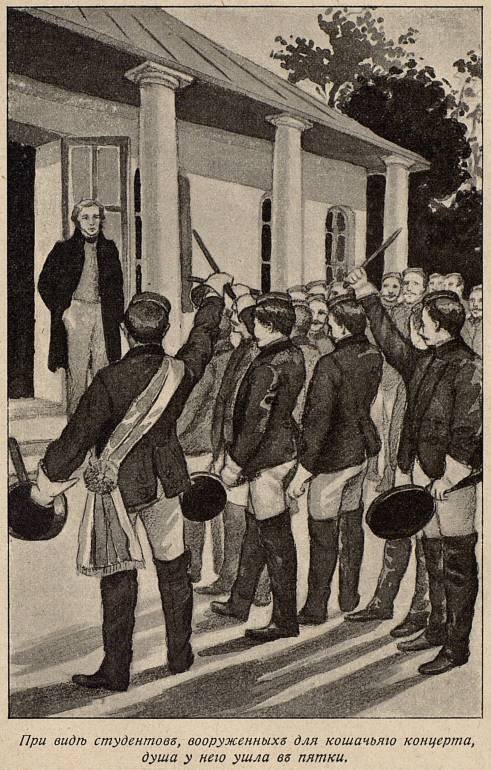Молодость славного русского хирурга и педагога Н. И. Пирогова.
В. П. Авенариус
Биографический рассказ для юношества.
С портретами и рисунками.
С.-Петербург. 1909 год
Издание книжного магазина П. В. Луковникова.
Оглавление.
Часть первая. Детство и школьные годы.
Глава I. Первые впечатления. — Родители, няня и служанка-сказочница
Глава II. Азбука и детские книжки. — Два учителя. — Доктор Мухин и игра в лекаря
Глава III. Пансион Кряжева. — Вступительный экзамен. — Хозяйка пансиона
Глава V. Семейные невзгоды. — «Приготовитель» Феоктистов. — Случайные просветители: Кнаус и Березкин
Глава VI. Поступление в университет. — № 10 студенческого общежития
Глава VII. Кости и гербарии. — Философствование
Глава VIII. Смерть отца. — Дядя Назарьев. — Квартира с нахлебниками. — Профессора и студенты
Глава IX. «Vous allez а la gloire!»
Часть вторая. Академические годы.
Глава II. Дерптские профессора: Перевозчиков и Мойер. — Г-жа Протасова
Глава III. Русские студенты: Иноземцев и Даль, — Немецкие бурши и Булгарин
Глава V. «Не хочу жениться, хочу учиться». — Через Копенгаген на Берлин
Глава VI. В Берлине. — Квартирная хозяйка и её сынок. — Товарищи: Штраух, Котельников и Липгардт
Глава VIII. Возвращение в Россию. — Нос рижского цирюльника. — Литотомия в две минуты. — Профессура
Заключение. Пирогов в Крымскую кампанию
Вступление.
В марте месяце 1836 года в дерптском университете, где все предметы (кроме русского языка) читались по-немецки профессорами из немцев, случилось небывалое явление: на кафедру хирургии, по единогласному выбору медицинского факультета и с утверждения университетского совета, был призван молодой русский, коренной москвич Николай Иванович Пирогов. Оправдывался такой выбор тем, что Пирогов, еще 17-тилетним юношей окончив московский университет с знанием лекаря в продолжение пяти лет затем изучал хирургию в том же дерптском университете, а по сдаче докторского экзамена работал еще два года заграницей под руководством известнейших клиницистов-хирургов; по возвращении же в Россию произвел несколько замечательных операций.
Несмотря, впрочем, на многолетнее пребывание среди немцев, Пирогов не научился объясняться хорошенько по-немецки: на первой лекции забавная конструкция некоторых его фраз вызывала у студентов громкий смех. Такой прием со стороны слушателей не мог, конечно, не смутить молодого профессора. Лекцию свою он, однако, дочитал до конца, а затем со свойственной ему прямотой извинился в своем недостатке:
— Господа! Вы слышите, что по-немецки я говорю плохо. По этой причине я, разумеется, не могу быть настолько ясным, как бы мне хотелось. Прошу вас, господа, после каждой лекции говорить мне, не стесняясь, в чем я был не совсем понятен. Я охотно повторю и объясню снова всякий препарат.
Оказалось, что сама по себе лекция произвела на студентов все-таки очень выгодное впечатление.
— А предмет-то свой он, видно, отлично знает, — толковали они меж собой. — Наконец-то мы чему-нибудь да научимся из хирургии!
На второй лекции немножко еще посмеялись, а на третьей можно было расслышать полет мухи: общее внимание было приковано исключительно к содержанию лекции. Вскоре хирургия сделалась у большинства медиков любимым предметом; в хирургическую клинику и анатомический театр стали заглядывать студенты и с других факультетов: очень уж наглядно и ловко «демонстрировал» этот молодой русский!
Общение Пирогова со студентами не ограничивалось, однако, одними лекциями: после вечернего обхода клиники зачастую он прямо оттуда, вместе с ними, заходил на квартиру своего ассистента: благо, было близко, — в том же здании. За стаканом чая они беседовали здесь совсем уже по-товарищески не только о научных, но и о всяких житейских вопросах спорили, горячились, хохотали. По субботам же такие вечерние собрания были у самого Пирогова, и только с боем двенадцати часов ночи молодые гости нехотя расходились.
Но дружба дружбой, а служба службой: при клинических занятиях никому из студентов не было от него поблажки. Исследуя больного, они должны были систематически излагать ему ход своих мыслей, не отвиливая общими местами. Взыскательный к другим, он был не менее строг и к самому себе. «Errare humanum est» (человеку свойственно ошибаться), — говорили еще древние римляне. Естественно, что и у Пирогова случались промахи. Но он их никогда не замалчивал, а откровенно в них тут же сознавался. И это его не только не роняло, а, напротив, возвышало в глазах молодежи. Издавая в первые два года профессорства свои клинические лекции под заглавием: «Анналы хирургической клиники», он с тем же гражданским мужеством описывал там свои невольные ошибки. Однажды поздним вечером, когда он собирался уже лечь спать, отворяется дверь и входит нежданный гость, почтенный профессор Энгельгардт. Пирогов засуетился, пододвинул ему кресло. А тот достает из кармана лист «Анналов» и читает вслух жестокую отповедь Пирогова самому себе за один неправильный диагноз (определение болезни по признакам); голос старика от волнения обрывается, на глазах у него навертываются слезы, и он крепко обнимает Пирогова со словами:
— Ich respektire Sie! (Я вас уважаю!).
Понятно, что это «respektire» из уст заслуженного ученого должно было тронуть до глубины души его молодого коллегу.
Кроме двух томов «Анналов», в течение пятилетнего профессорства в Дерпте Пироговым были изданы: «Хирургическая анатомия артериальных стволов и фасций» (оболочек мышц) с атласом рисунков препаратов, сделанных им самим, и «Монография о перерезке ахиллесова сухожилия». Благодаря тому, что первый из этих капитальных трудов вышел на латинском и немецком языках, начинающий русский хирург заслужил себе тогда же почетную известность и за границей. Когда он в 1838 г. получил от университета командировку с ученой целью в Париж и представился там знаменитому хирургу Вельпо, как русский врач, первый вопрос Вельпо был:
— Так вы знаете, конечно, дерптского профессора, мосье Пирогова?
— Я сам Пирогов, — улыбнулся тот в ответ.
— Что же вы сразу себя не назвали? Как я счастлив с вами лично познакомиться! — воскликнул пылкий француз и рассыпался в похвалах его научным исследованиям.
Свои летние каникулы в Дерпте Пирогов употреблял не на отдых от зимних трудов, а на хирургические экскурсии в Ригу, Ревель и другие прибалтийские города. Так как эти экскурсии сопровождались потоками крови оперируемых, то их называли шутя «Чингисхановыми нашествиями». О каждом таком «нашествии» в маленькие города пасторы соседних сельских приходов заранее оповещали прихожан с церковного амвона, и с прибытием Пирогова стекались целые толпы больных, нуждавшихся в хирургической помощи.
Петербург со своей стороны не остался глух к разраставшейся с году на год славе русского ученого немецкого университета. Когда в 1841 году в медико-хирургической академии освободилась вакансия профессора, ее предложили Пирогову. Но Пирогов задался уже более широкою задачей — соединить теорию хирургии с клиническими занятиями, чтобы начинающие врачи делались самостоятельными при постели больного. Мысль его понравилась, и при академии была учреждена новая кафедра госпитальной хирургии и прикладной анатомии. Кафедру эту предоставили, разумеется, самому Пирогову, получившему с этой целью в полное распоряжение хирургическое отделение 2-го военно-сухопутного госпиталя, с званием главного врача отделения.
Состояние этого госпиталя было тогда ужасающее: в переполненных палатах больные с гнойными язвами валялись в грязном белье на грязных матрацах; бинты и компрессы, сейчас только снятые с одного больного, накладывались на другого; питание было недостаточное и отвратительное; вместо настоящих, но дорогих лекарств прописывались дешевые суррогаты, как, напр., вместо хинина — бычья желчь. Такое отношение к страдальцам объяснялось как вопиющей небрежностью, так еще более поголовным воровством: мясо и молоко, предназначавшиеся тяжело-больным, поставлялись на квартиру госпитального начальства; купленные для казенной аптеки аптечные материалы спускались негласно по удешевленной цене частным аптекам; а грязные повязки и корпия, непригодные уже для употребления, складывались в угол для продажи затем на писчебумажную фабрику. Зато смотрители и комиссары разъезжали в собственных экипажах, а по вечерам устраивали у себя крупную карточную игру с ужинами.
В таком печальном виде застал Пирогов и порученное ему хирургическое отделение на 1000 кроватей, в котором — стыдно сказать! — не имелось даже особого помещения для операций. Делать их приходилось в старых банях, стены которых насквозь были пропитаны миазмами; здесь же вскрывались многочисленные трупы.
Работать при таких непорядках было немыслимо, и Пирогов с первого же дня не только серьезно «подтянул» весь подведомственный ему медицинский и нижнеслужительский персонал, но не убоялся с той же энергией требовать от главного доктора госпиталя и его приспешников доставления больным всего, что им полагалось, в должном количестве и лучшего качества. Понятно, что такой «неделикатностью» он нажил себе в этих господах непримиримых врагов.
Между тем лекции Пирогова с демонстрациями над больными в новой хирургической клинике шли своим чередом. Если в дерптском университете, несмотря на свою ломаную немецкую речь, он в несколько дней приобрел уже популярность, то тем легче было ему заслужить ее у русских студентов петербургской медико-хирургической академии; своим увлекательным, необычайно ясным изложением на родном языке и мастерской техникой при операциях он вдохновлял их самих к совершенствованию в этой технике. Так его клиника стала рассадником опытных молодых хирургов для всей нашей армии.
Совершенно естественно, что такого первостепенного представителя медицины признали нужным привлечь также в медицинский совет, а потом и в особый комитет по преобразованию медицинской учебной части в заведениях министерства народного просвещения. В этом последнем комитете, по предложению Пирогова, в числе разных преобразований, состоялось решение, утвержденное затем и министром, открыть при всех университетах, по примеру медико-хирургической академии, кафедры госпитальной хирургии и терапии; для практического же изучения анатомии на трупах был основан в Петербурге особый анатомический институт, и директором его назначен сам Пирогов. Здесь им было произведено за 13 лет профессорства в академии 12000 вскрытий, из которых по каждому составлялся подробный протокол. Самые же интересные в научном отношении препараты при этих вскрытиях передавались во вновь устроенный им музей патологической анатомии.
Постоянно видя мучительные страдания, причиняемые больным его оперативным ножом, Пирогов давно уже носился с идеей погружать оперируемых в искусственный сон с анестезией, т.е. с потерей чувствительности. Упомянутый выше французский хирург Вельпо решительно отвергал возможность анестезии.
— Устранение боли при операциях — химера, — говорил он еще в 1840 году. — Режущий нож и боль — два понятия неотделимые в уме больного друг от друга.
А уже шесть лет спустя безболезненные операции начали производить под действием эфира. Как только слух о таком чудодейственном средстве долетел до Петербурга, Пирогов не замедлил испытать это средство, сперва над животными, потом над здоровыми людьми, а наконец, и над больными. Командированный в 1847 году на театр военных действий на Кавказе, он первый вообще из всех европейских хирургов употреблял наркоз на войне при чем, усыпив раненого эфирными парами, допускал и других раненых и здоровых солдат присутствовать при операциях, чтобы дать каждому воочию убедиться в их безболезненности. Полевым лазаретом служили ему простые шалаши из древесных ветвей с соломенной крышей; а операции и перевязки он делал, стоя на коленях перед койкой больного, состоявшей из двух скамей, устланных соломой.
Все наблюдения свои в полевых лазаретах он описал потом в медицинских журналах.
В 1848 году в Петербург была занесена азиатская холера. Устроив в своей клинике особое холерное отделение, Пирогов собственноручно вскрыл более 800 трупов холерных больных и исследования свои опубликовал на русском и французском языках в большом сочинении: «Патологическая анатомия азиатской холеры», за которое академия наук присудила ему полную Демидовскую премию.
Не прерывая своих лекций с демонстрациями в медико-хирургической академии, Пирогов посещал также, в качестве консультанта, городские больницы, имел обширную частную практику и находил еще время для ученых трудов.
Когда весною 1854 года вспыхнула война России с двумя могущественнейшими западно-европейскими державами — Англией и Францией, Пирогова неудержимо потянуло на театр военных действий, где его хирургическая помощь была так необходима. Только в октябре месяце все препятствия были разом устранены благодаря великой княгине Елене Павловне, впервые возымевшей высоко-гуманную мысль — уход сестер милосердия за больными, существовавший уже тогда в госпиталях, как за границей, так и у нас, применить и на поле сражения. Основанная ею с этою целью «Крестовоздвиженская община сестер попечения о раненых и больных» в течение всей Крымской кампании совершала затем, под руководством Пирогова, чудеса подвижничества. Столь же самоотверженная, выше всякой похвалы, деятельность самого Пирогова по облегчению страданий безвинных жертв войны не может быть изложена в нескольких строках, а потому этот наиболее блестящий период его славной научно-трудовой жизни мы опишем еще особо в своем месте.
С заключением мира и с восшествием на престол императора Александра II Россия пробудилась от тысячелетней спячки к новой, осмысленной жизни. Но издавна недужный, а теперь потрясенный еще войной, государственный организм требовал самого серьезного всестороннего лечения, и Пирогов, до тех пор врач телесных ран, стал в ряды врачей недугов общественных.
В «Морском Сборнике», одном из тогдашних передовых журналов, начали появляться статьи его о воспитании, — статьи, своими здравыми, практическими взглядами тотчас обратившие общее внимание. Основная идея этих статей заключалась в том, что средняя школа должна вырабатывать из подрастающего поколения прежде всего людей, не предрешая вопроса об их будущей специальности. Совершенно неожиданно Пирогова вызывают к министру народного просвещения Норову, и еще неожиданнее тот предлагает ему место попечителя одесского учебного округа. По возвращении из Крыма Пирогов принял предложение министра.
Предшественник Пирогова, Княжевич, избаловал одесских педагогов своей податливостью и мягкостью обращения. О педантичной взыскательности и строгости Пирогова к подчиненным из Петербурга доходили тревожные, преувеличенные даже толки. В воображении одесситов в том числе и гимназистов, новый попечитель представлялся не то людоедом, не то громовержцем. И что же? В классы, во время уроков, стал появляться без всякой торжественности невысокого роста, сутуловатый мужчина в мешковатом сюртуке. Неужели это он, этот невзрачный тихоня без звезд и ленты, даже без крестика в петлице? Кивнёт, входя, учителю: «Продолжайте, на чем остановились», усядется с краю на передней скамейке рядом с гимназистом, возьмет у него учебник и следит за ответами вызываемых учеников. Временами задает им и сам вопросы, делает свои меткие замечания. Правда, бросаемый им из-под нависших бровей взгляд, молниеносный и острый, как бы проникающий в самую душу, вначале наводил на более робких невольный трепет. Но ожидаемых громов так и не было: неизменно ровное и простое обхождение и с учителями и с учениками внушало к нему доверие и ободряло. А вскоре те научились его и уважать и любить.
Особенно пришлись по душе ученикам трех старших классов заведенные новым попечителем вечерние литературные беседы, где происходил оживленный обмен мыслей между учащими и учащимися. А заболеет бедняк, — у того же попечителя он находил даровую и самую внимательную врачебную помощь. Когда ученики 2-й гимназии затеяли спектакль в пользу нуждающихся товарищей, Пирогов, в виду благой цели, разрешил им играть; но, в принципе отнюдь не одобряя выступления учащейся молодежи на подмостках, он напечатал по этому поводу замечательную статью под заглавием: «Быть и казаться». Появлялись потом и другие педагогические статьи его.
Кроме двух гимназий в Одессе, существовал еще Ришельевский лицей. Для возбуждения в лицеистах охоты к саморазвитию, Пирогов приложил особую заботливость к пополнению всех учебных кабинетов и отвел отдельное помещение для студенческой читальни. Возбудил он также вопрос о преобразовании лицея в университет.
Самому осуществить это преобразование ему, впрочем, не пришлось, потому что после двухлетнего попечительства в Одессе его перевели на ту же должность в Киев. Здесь точно так же им были заведены в гимназиях литературные беседы, усилены учебные кабинеты и библиотеки; наиболее даровитые учителя получили научные командировки заграницу. Для улучшения слишком формальных и мало-гуманных отношений педагогов к ученикам он признал нужным пересмотреть правила о проступках и наказаниях учеников. Первый вопрос его созванному для этого комитету был: нельзя ли в гимназиях вовсе упразднить телесные наказания? Тот же вопрос был им предложен 11-ти дирекциям киевского округа. Но значительное большинство педагогов склонялось еще к сохранению этих наказаний, и Пирогову с тяжелым сердцем пришлось удовольствоваться тем, что в новых правилах розга допускалась лишь как самая исключительная мера.
Результат такого условия тотчас сказался: за один год употребление розги в киевском округе уменьшилось в 20 раз: в 1858 году из 4000 учеников испытали это позорное наказание еще 550, а в 1859 году число наказанных сократилось уже до 27 человек.
Студенты киевского университета вскоре также оценили нового попечителя: университетская библиотека обогатилась дорогими специальными изданиями; студентам был дан товарищеский суд и разрешено открыть воскресную школу.
Душевным, человечным отношением и к молодежи и к их наставникам Пирогов заслужил в Киеве, как перед тем в Одессе, всеобщее расположение. Когда в марте 1861 года он, вследствие своей «излишней гуманности», вынужден был оставить должность, ему были устроены самые сердечные проводы.
— Вы украшены титулом превосходительства, Николай Иванович! — говорил ему на прощальном обеде один из ораторов. — Никогда не величая вас превосходительством, я теперь на прощанье громко и смело скажу, что другого титула вам нет и быть не может. «Он был великий король!» — говорит у Шекспира Горацио про отца Гамлетова.
«Человек он был из всех людей, каких нам доводилось видеть! и — отвечает ему Гамлет. Вот в этом-то смысле вы — превосходительство: вы превосходите, как человек, многих и многих людей у нас на Руси, где еще с диогеновым фонарем среди бела дня нужно искать человека.
Провожать отъезжающего выехало за город 800 человек, а в память его при университете была открыта бесплатная школа.
Удалившись в свое имение — с. Вишню, Подольской губернии, Пирогов не сложил рук, а принял тотчас же предложенную ему, столь почетную тогда и многотрудную должность мирового посредника. Но уже в 1862 году в Петербурге вспомнили опять о нем и командировали его заграницу на 4 года руководить занятиями молодых русских ученых.
По окончании командировки он возвратился к себе в деревню, где устроил для крестьян больницу на 30 кроватей, но ежедневно ему не было отбоя и от амбулаторных больных.
С открытием в 1870 году военных действий, между Германией и Францией Общество Красного Креста предложило Пирогову отправиться в Эльзас и Лотарингию. В течение пяти недель он посетил там до 70-ти военных лазаретов, а собранные при этом наблюдения изложил затем в подробном отчете, переведенном и на немецкий язык.
В Турецкую войну 1877—1878 гг. Общество Красного Креста снова обратилось к престарелому уже хирургу с просьбой осмотреть на месте всю санитарную часть и средства к транспорту раненых и больных. Проведя в Румынии и Болгарии полгода, Пирогов описал все виденное им в большом сочинении: «Военно-врачебное дело и частная помощь на театре войны и в тылу действующей армии в 1877—1878 гг.»
Этим капитальным сочинением завершились его ученые труды. С постепенным упадком телесных сил предчувствуя близкий конец, он оглянулся на пройденный им трудовой путь и принялся писать свои воспоминания, озаглавив их: «Вопросы жизни. Дневник старого врача, писанный исключительно для самого себя, но не без задней мысли, что, может быть, когда-нибудь прочтет и кто другой».
В мае 1881 года состоялось в Москве торжественное празднование 50-тилетнего юбилея всемирно-известного хирурга. Приветствовали его адресами и телеграммами не только все русские университеты, научные и высшие правительственные учреждения, но и многие заграничные университеты и ученые общества. Родной его город — Москва — выбрал его своим почетным гражданином.
Но самому юбиляру знаменательный день был не в праздник: он страдал уже мучительной неизлечимой болезнью (раковой язвой нёба), которая, полгода спустя, 25 ноября 1881 г., и свела его в могилу.
Но память об этом, можно сказать, создателе настоящей хирургии в России свято чтится его последователями, которые еще в 1882 году основали «Русское хирургическое Общество Пирогова» и периодически собираются со всех концов России на «Пироговские съезды».
Русские педагоги, в свою очередь, и поныне черпают здравую мудрость педагога-мыслителя из его педагогических статей и «Вопросов жизни».
Мифологическая богиня мудрости Минерва, дочь Юпитера, вышла во всеоружии из головы отца. Мы же, смертные, все до единого родимся нагими, беспомощно-слабыми и бессловесными. Для полного расцвета наших природных способностей от всякого из нас, даже от самых талантливых требуется преданная любовь к своему делу и упорный труд. Наглядным примером тому может служить Пирогов ничем почти не отличавшийся в детстве от других детей. Поэтому мы считаем особенно любопытным и поучительным проследить за ним от колыбели до возмужалости, когда из него выработался один из редких благодетелей страждущего человечества.
Часть первая. Детство и школьные годы.
Глава первая.
Первые впечатления. — Родители, няня и служанка-сказочница.
Сто лет назад, еще до нашествия французов, в Москве, в приходе Троицы в Сыромятниках, жил в собственном доме казначей казенного провиантского депо, Иван Иванович Пирогов, хороший человек и счастливый семьянин. 13 ноября 1810 года дом его огласился первым криком новорожденного, нареченного Николаем, по числу тринадцатого ребенка, которому суждено было получить всемирную известность.
Самое раннее воспоминание Пирогова относится к тому времени, когда ему едва минул год. Перед Отечественной войной 1812 года, как известно, появилась на небе, точно в предзнаменование великого народного бедствия, необычайной величины и яркости комета. И вот перед духовным взором старца Пирогова, спустя почти 70 лет восстает огромная блестящая звезда. Впрочем, и сам он не совсем еще уверен, есть ли то личное его впечатление, врезавшееся неизгладимо в младенческий мозг, или же то галлюцинация, вызванная слышанными им в детстве частыми рассказами о необыкновенном небесном явлении.
Последующие затем 5—6 лет не оставили в его памяти никаких следов. Перед вступлением Наполеона в Москву Пироговы спаслись бегством во Владимир. С уходом французов они возвратились на старое пепелище, но не нашли уже своего дома, сгоревшего подобно большей части Москвы. Тогда на прежнем месте был выстроен новый дом, более просторный и более нарядный: по собственным указаниям Пирогова-отца, большого любителя живописи, доморощенный художник, Арсений Алексеевич, разукрасил и дом и садик при нем произведениями своей кисти. Так, на изразцовых печах появились аллегорические изображения лета и осени, в виде двух женщин, увитых колосьями и виноградом, на потолках — порхающие пестрые птицы, на стенах спальни барышень — турецкие палатки, а в садовых беседках — фантастические фрески. В садике были разбиты цветники и устроены для детей разные игры: кегли, бильбоке и проч. Но Коле больше игр доставляло удовольствие гулять между пышными цветниками, которые наполняли воздух такими сладкими благоуханиями и блистали алмазами не высохшей росы.
После него у родителей был еще один ребенок; но так как тот умер еще в младенчестве, то Коля остался младшим в семье и сделался общим любимцем.
Особенно баловала его мать. Сидя за вечным вязаньем чулок для своих многочисленных детей, она не отрывала глаз от резвившегося около неё баловня. А встретятся их взоры, — все лицо её озарится таким солнечным светом материнской любви, что мальчик бросится целовать её руки.
— Ах, маменька, какая вы красивая! Таких красавиц, наверно, нет больше на свете!
Выйдя замуж пятнадцати лет от роду, она находилась еще в цветущей поре жизни и в своем, кружевном чепчике с выбивающимися из-под него светло-русыми локонами была, в самом деле, очень миловидна.
— Ну, еще бы! — смеялась она в ответ, невольно краснея и делаясь оттого еще краше. — Глупыш ты у меня, глупыш!
А сама целовала глупыша и прижимала к сердцу.
Родители Коли были очень набожны. Перед их киотом с образами стояло закрытое серебряными застежками евангелие в зеленом бархатном переплете с эмалевым изображением четырех евангелистов. По целым часам читали они евангелистов, а также молитвы, псалмы, акафисты и каноны по требнику, псалтырю и часовнику; в праздничные дни ходили в церковь к всенощной, заутрене, обедне; посты и постные дни на неделе соблюдали строго; в Великом посту не давали мяса даже кошке Машке. Детей своих они воспитывали, разумеется, в самом благочестивом духе. Так и малыша Колю к каждой праздничной заутрене поднимали сонного с постели. Когда в церкви от усталости и запаха ладана у него делалось головокружение, его выводили на свежий воздух, а оправится — вводили опять в церковь.
Значение молитв и таинств Коля, по малому возрасту, не мог, конечно, хорошенько себе усвоить. Однажды, приобщившись св. тайн, он заметил своей старшей сестре что-то насчет вкуса причастия. Когда же сестра стала ему выговаривать, что такими речами он оскорбляет Бога, мальчуган горько расплакался и на коленях стал просить у Бога прощения.
Няня его, Катерина Михайловна, или просто Михайловна, была солдатская вдова из крепостных. В представлении Коли она запечатлелась навсегда неразрывно с тою обстановкой, в которой он пробуждался поутру ото сна: сам он накрыт беличьим одеяльцем, в ногах у него лежит серая кошка Машка, а на столике у кроватки в стакане воды красуется букетик белых роз, которые няня доставала для него из соседнего сада Ярцевой.
Со своим младшим питомцем Михайловна была неизменно кротка и ласкова, никогда его не бранила; если же хотела удержать от чего дурного, то говорила только:
— Бог не велит так делать; не делай этого, миленький мой: грешно!
И, несмотря на некоторое врожденное упрямство мальчика, слушался.
Как-то в Успеньев день, храмовой праздник в Андроньевом монастыре, Пироговы отстояли там обедню. Тут надвинулась черная грозовая туча, и они решились переждать грозу в монастыре. Коля с няней стояли у открытого окошка; внизу, по пологому зеленому скату, среди раскинутых шатров, гуляла, горланила толпа. Вдруг сверкнула молния, зарокотал гром.
— Вот смотри, — сказала няня: — народ шумит, буянит и не слышит, как Бог грозит! Здесь шум да веселье людское, а там, вверху, у Бога свое…
Этот случай глубоко заронился в восприимчивую душу Коли, и с тех пор до самой старости всякая гроза во время гулянья производила на него удручающее действие.
Другой раз, гуляя с няней по берегу Яузы, он увидел двух мальчишек с собакой, которую один из них собирался утопить. Собака билась в руках озорника и визжала, а товарищ его усовещевал:
— Всякое дыхание да хвалит Господа!
— Вот умник: и святое писание знает! — заметила няня. — Тебе-то, пострел, как не грех? Ведь собака, что и сам ты, тварь Божия. Отпусти ее, сейчас отпусти! Слышишь?
И, благодаря её вмешательству, собака была спасена. Когда Пирогову впоследствии случалось слышать слова псалма: «всякое дыхание да хвалит Господа», перед ним всегда воскресала эта сцена у Яузы.
От няни же он узнал некоторые факты из семейной хроники. Так, в кабинете отца стояла в углу тяжелая, в медных ножнах, сабля, полагавшаяся ему по военному чину майора. Когда Пироговы в 1812 году спасались из Москвы во Владимир, на дороге им попалась крестьянка-молочница, которую только что ограбил ополченец. Пирогов-отец выскочил из повозки и с саблей наголо бросился на грабителя. Тот испугался и убежал. Крестьянка, чтобы чем-нибудь хоть отплатить своему спасителю, поднесла его сыночку кринку молока.
Не менее отцовской сабли интересовал Колю дедушкин парик. По обычаю того времени, дед Иван Михеевич Пирогов служил вначале также в армии, а когда вышел в отставку, то поселился в Москве и завел там нового типа пивоварню. Нрава он, по словам няни, был довольно крутого и не ладил с бабушкой, которая была капризна, сварлива и под конец жизни помешалась. Перед самой смертью у Ивана Михеевича прорезались новые зубы. Коле тогда было всего четыре года, а потому он помнил деда только смутно, как высокого, сухопарого старичка в рыжеватом парике. Входя в церковь, Иван Михеевич вместе с шапкой снимал всегда и парик. Похоронили его без парика, и теперь маленький внук, шаля, наряжался в дедовский парик.
Выдающуюся роль в детстве Коли, наряду с няней, играла еще крепостная служанка его матери, Прасковья Кирилловна. Это была дебелая девушка с толстыми красными руками и лицом, изрытым оспой и усеянным веснушками. У неё был целый запас сказок, из которых в памяти Коли особенно врезались: о Воде-Водоге и о трех человечках: белом, черном и красном.
В первой сказке Вод-Водог (рожденный от какой-то волшебной воды), наловив на охоте всевозможных зверей идет воевать с врагами и на крик его: «Охотушка, не выдай!» звери помогают ему одолеть врагов.
Во второй сказке к бабе-яге, лежащей на печи, приходит маленькая внучка.
— Что ты видела на дороге? — спрашивает густым басом бабушка.
— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, — отвечает тоненьким голоском внучка: — белого мужичка на беленькой лошадке, в беленьких саночках.
— То мой день, то мой день! А еще что?
— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, черного мужичка на чёрненькой лошадке, в чёрненьких саночках.
— То моя ночь, то моя ночь! Еще что?
— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, красного мужичка на красненькой лошадке, в красненьких саночках.
— То мой огонь, то мой огонь! Говори, еще что?
— Видела я, бабушку видела я, сударыня, что у вас ворота пальцем заткнуты, кишкою замотаны.
— То мой замок, то мой замок! Ну, еще что?
— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, что у вас в сенях рука пол метет.
— То моя слуга, то моя слуга! Еще что? Говори скорей!
— Видела я, бабушка, видела я, сударыня, тут возле вас, у печки, голова чья-то висит.
— То моя колбаса, то моя колбаса!
И, скрежеща зубами, бабушка хватает внучку… Что было дальше: проглотила ли бабушка внучку живьем или в печку бросила, — того Пирогов спустя шестьдесят слишком лет не мог уже припомнить. Но сам он потом не раз пересказывал ту же сказку маленьким детям, постепенно повышая бабушкин голос до рычания и рева, по примеру Прасковьи Кирилловны, и достигал такого же эффекта.
Глава вторая.
Азбука и детские книжки. — Два учителя. — Доктор Мухин и игра в «лекаря».
Читать Колю никто не учил: грамота далась ему как бы сама собой, когда ему было шесть лет. Со времени Отечественной войны в большом ходу были карикатуры на Наполеона, в числе их и иллюстрированная азбука, состоявшая из отдельных карт с двустишием под каждым рисунком. На первой картине мужик догоняет нескольких французских солдат; а внизу пояснение:
«Аль, право, глух мусье, что мучит старика.
Коль надобно чего, спросите казака»‘.
На второй картине мчится в санях сам Наполеон, с Даву и Понятовским на запятках; подпись такая:
«Беда! гони скорей с грабителем московским,
Чтоб в сети не попасть с Даву и Понятовским».
На третьей картине несколько французов на бивуаке раздирают на части ворону: один схватил воронью лапку; другой, лежа на земле, лижет из пустого котла; комментарий к рисунку:
«Ворона как вкусна! нельзя ли ножку дать?
А мне из котлика хоть жижи полизать».
Как ни пошлы, ни мало остроумны были эти насмешки над побежденным врагом, для Коли они пошли впрок, как первый учебник грамотности, а вместе с тем пробудили в его детском сердце любовь к отечеству.
Что же читал он, научившись читать? — Прежде всего несколько детских книг с рисунками, подаренных ему отцом: «Зрелище вселенной», «Золотое зеркало для детей», “Детский магнит”, «Эзоповы басни». Еще более, однако, нравился ему карамзинский журнал «Детское Чтение», купленный отцом для старших детей к Новому году. Журнал этот Коля перечитал несколько раз, и хотя потом зачитывался также «Робинзоном» и «Дон-Кихотом», но такого наслаждения, как от «Детского Чтения», он уже не испытывал.
Крылов в то время составил уже себе имя, как баснописец, но басен его детям еще не давали. Впервые услышал их Коля от одного знакомого, искусного чтеца, и с его слов запомнил три басни: «Квартет», «Демьянову уху» и «Тришкин кафтан»; после чего и сам уже декламировал их с подходящими ужимками. Потом он заучил наизусть и целые баллады Жуковского.
Из небольшой библиотеки отца особенно занимало его «Путешествие по России» Палласа с изображениями разных национальностей, населяющих Россию.
Первого учителя пригласили для Коли, когда ему пошел девятый год. То был студент университета, стройный, красивый, с румянцем во всю щеку, и большой щеголь: с туго-накрахмаленным стоячим воротничком и белыми панталонами с синенькими полосками (для студентов тогда не существовало еще формы). Недовольна этим вечно улыбающимся юношей была только няня:
— Ишь ты, модник какой! — брюзжала она. — И воротнички-то, и рукавчики, и грудь на рубашке, — все чтоб было крепко накрахмалено! Этак на него одного фунт крахмалу в месяц изведешь.
Эстетический вкус «модника» выражался, впрочем, также в любви к поэзии и в собственных стихотворных опытах. К Рождеству Христову Коля должен был заучить поздравление отцу, сочиненное учителем и начинавшееся так:
«Зарею утренней румяной,
В одежде солнечной, багряной
Направил ангел свой полет».
Однако у Коли и тогда уже стала проявляться его прозаическая, положительная натура: более стихов занимал его грамматический разбор частей речи.
Был у Коли потом и другой учитель из студентов московской медико-хирургической академии. В противоположность первому этот был низкого роста и собой отнюдь не красавец. Занимал он ученика не столько учением по книжке и письменными работами, сколько устными беседами и переводами из латинской хрестоматии Кошанского. Но к латыни у Коли не оказалось склонности.
Любимым его развлечением в свободные часы, кроме чтения, было собирание и сушение цветов. Из игр он предпочитал две: игру «в войну» и «в лекаря». Последнюю игру он придумал сам и вот по какому поводу.
В описываемое время у родителей Пироговых оставалось в живых шестеро детей: три сына — Петр, Амос и Николай, и три дочери — Екатерина,
Пелагея и Анна. Сын Петр, которому тогда минуло уже двадцать лет, страдал сильнейшим ревматизмом. Призывали одного за другим нескольких докторов, но ни один не принес ему облегчения; из комнаты больного продолжали доноситься стоны. Тогда решили пригласить первую знаменитость в московском медицинском мире — профессора университета, доктора Ефрема Осиповича Мухина.
В ожидании его все в доме еще с утра принарядились; в столовой был накрыт чайный стол со всевозможным печеньем и вареньем; прислуге было внушено, как снимать с почетного гостя верхнее платье. Когда подошел наконец час, в который должен был прибыть великий эскулап, общее лихорадочное возбуждение достигло высшей точки; отец, не дождавшись, ушел на службу; мать же и дети бродили но комнатам, как потерянные, оглядываясь, все ли в порядке, нет ли еще где пылинки. Коля суетился не менее других, то и дело подбегал к окошку, выскакивал на крыльцо. Вдруг кричит кто-то:
— Едет! едет!
Все кинулись к окнам. У крыльца остановилась двухместная карета, запряженная четверкой. С козел соскочил ливрейный лакей раскрыл дверцы кареты и высадил высокого, сановитого старика.
Мать поспешила в переднюю. Коля из-за двери во все глаза уставился на входящего. Вблизи доктор производил впечатление еще более внушительное.
Выдающийся подбородок придавал его симпатичному вообще облику выражение сильной воли.
— Где же, сударыня, ваш больной? — спросил он, чинно здороваясь с хозяйкой.
— Пожалуйте за мною, — заторопилась она и ввела его в спальню больного сына.
Коля незаметно проскользнул вслед. Первым делом Мухин ощупал пульс больного, велел показать ему язык; тут только мать заметила присутствие меньшого сына и выслала его вон из комнаты. Немного погодя она вместе с доктором вышла также оттуда.
— Пошлите, значит, сейчас же в москательную лавку за сассапарильным корнем, — говорил Мухин: — да пусть возьмут такого, чтобы при разломе давал пыль.
— А потом выпарить в горшке?
— Да, хорошенько; но, прежде чем ставить в печь, замажьте горшок сверху, как сказано, наглухо тестом. Не забудьте и серную ванну. А засим, сударыня, до свиданья.
— А стаканчик чаю, доктор? Чай уже заварен…
— Покорно благодарю. Меня ждут другие пациенты.
— Какой он важный! — заметила детям мать по уходе доктора. — Но сейчас видно, что знает свое дело.
— А он надеется, маменька, вылечить Петю?
— Обещает. И невольно как-то верится.
Через несколько дней больной, действительно, стал чувствовать себя значительно лучше, а еще через неделю ревматизма у него словно никогда и не бывало. Тут уже вся семья Пироговых окончательно уверовала в искусство Мухина; а Коле загорелось разыграть также его роль.
— Ну, няня, — сказал он Михайловне: — дай-ка я полечу тебя; ложись на кровать.
— Что ты это вздумал, шалун? — отвечала няня. — Я, слава Богу, здорова.
— Так притворись, что ты больная.
— А ты лекарь, что ли?
— Лекарь.
— Ну, ладно.
Улеглась она на кровать, а Коля, взъерошив волосы, чтобы больше походить на Мухина, подошел к ней с такой же важной миной и осанкой, взял ее за пульс и стал вполголоса считать:
— Раз, два, три, четыре… О, о, о! У тебя, матушка, сильный жар. Покажи-ка язык.
Старушка, едва удерживаясь от смеха, высунула кончик языка.
— Больше, матушка, больше. Гм! весь обложен.
Не болит ли у тебя и под ложечкой?
— Болит, сударь, так и колет!
— М-да. Тут одно средство — касторка.
И, подойдя к столу, он вырвал из тетрадки чистую страницу и начертал: «Oleum ricini. Dr Pirogofl».
— Сейчас пошли в аптеку и прими всю склянку, а на ночь положи себе согревающий компресс. Засим, матушка, до свиданья. Меня ждут другие пациенты.
И, величаво кивнув пациентке, он направился к выходу.
Няня не преминула, разумеется, рассказать об этой сценке другим домашним, и те, чтобы потешить общего своего любимчика, охотно давали ему также «лечить» себя. Свою игру «в лекаря» он постепенно разнообразил и совершенствовал. Так, он принимал, напр., зараз нескольких больных, в том числе и кошку Машку, разодетую дамой.
То была детская игра, но в ней как бы сказывалось уже настоящее призвание будущего спешила медицины.
Глава третья.
Пансион Кряжева. — Вступительный экзамен. — Хозяйка пансиона.
Давно уже в семейном совете шли толки о том, чтобы отдать Колю в школу. Выбор остановился на пансионе Кряжева, который находился в том же околотке и пользовался хорошей репутацией.
В одно достопамятное ему февральское утро 1822 года мальчик был разбужен матерью ранее обыкновенного.
— Ну, Коленька, экзамен назначен в половине девятого, а скоро восемь; не опоздать бы.
Сон мигом слетел с его глаз. Пока он одевался, его забила экзаменационная лихорадка.
— Если бы вы знали, маменька, как мне страшно!
— Уж и страшно? Вчера ведь еще папенька тебя переспрашивал, и ты отвечал без запинки.
— А теперь кажется, ничего не помню; все вылетело из головы!
— Ну, ну, не малодушествуй. Захоти только — и вспомнишь. В одиннадцать лет ты ученее ведь своих старших сестер, да и меня самой. Женщине знать много не к чему: знай сверчок свой шесток. А ты — мужчина.
Впоследствии, когда было уже поздно, г-жа Пирогова изменила свой отсталый взгляд на женское образование и немало скорбела о своем заблуждении.
Парадную форму, по чину майора: мундир с золотыми петлицами на воротнике и обшлагах, белые рейтузы, высокие ботфорты с длинными шпорами и на боку — упомянутую уже выше саблю, отец Коли надевал только при особенно торжественных оказиях. На этот раз оказия была если и не торжественная, то чрезвычайная, и он нарядился также по-парадному.
До пансиона Кряжева было ходьбы не больше версты; а потому отец с сыном (несмотря на то, что старик держал собственный экипаж) отправились туда пешком.
Вот из своего домика выходит дьякон Величкин с кадилом в руках.
— Куда, Александр Алексеич? — окликает его через улицу отец Коли: — знать, в церковь?
— Нет, на вынос тела новопреставленного раба Божия, — басит в ответ дьякон. — А вы сами Иван Иваныч, куда в таком блеске?
— Да вот птенца своего к Кряжеву на испытание веду. Будет присутствовать, слышь, сам Дружинин.
— Директор гимназий? Да, брат Николай, держи ухо востро, не ударь в грязь лицом. Ну, помогай вам Бог!
Сколько раз потом, бывало, когда Коля бежал из дома в школу, по пути попадался ему точно так же отец дьякон со своим кадилом и, шутя, щипал его в щеку. Но теперь все мысли Коли были устремлены вперед — к предстоящему испытанию, и сердце в нем усиленно ёкало.
В ту самую минуту, как они всходили на крыльцо пансиона, из-за угла показались парные сани, в которых сидел господин в медвежьей шубе.
— Дружинин! — шепнул отец сыну.
Оставив в прихожей верхнее платье, они поднялись по лестнице во второй этаж. Навстречу им неслись оттуда школьные звуки: дребезжанье колокольчика, призывавшего учеников в классы, и гул молодых голосов. В приемной было уже несколько мальчиков со своими родителями; был и сам содержатель пансиона Кряжев, невысокого роста, коренастый мужчина с багрово-красным лицом. Хотя за плечами у него было уже с полвека, но в его густых волосах едва еще пробивалась седина. Сквозь очки в серебряной оправе блестели умные, полные жизни глаза.
— А я полагал уж, что вы, г-н майор, раздумали, — заметил он Пирогову-отцу. — Мы ожидаем только г-на директора гимназий.
— А он сейчас вот подъехал.
— Так прошу, господа, в залу.
В зале оказался уже священник в рясе, — преподаватель Закона Божия и латинского языка. Вошедшие разместились на расставленных по стенам стульях. Когда же тут, в сопровождении Кряжева, вошел директор гимназий, все разом поднялись с мест с почтительным поклоном. Ответив наклонением головы, а рукой пригласив всех опять сесть, он сам занял серединное кресло за большим столом, накрытым зеленою суконною скатертью; по одну руку его уселся священник-латинист, по другую — содержатель пансиона.
И начался экзамен. Подходили мальчики к зеленому столу по очереди. От волненья они нередко путались в самых простых ответах. При виде этого и Коле становилось все более жутко; он чувствовал, как щеки и уши у него разгораются, как в груди дух спирает. А вот наступил, наконец, и его черед:
— Пирогов Николай!
— Смелей, смелей! — услышал он еще за собой ободрительный шёпот отца, когда двинулся к роковому столу.
— Ну-ка-с, сыне мой, — обратился к нему законоучитель: — что ты, скажи, знаешь из священной истории?
— Я все знаю, — храбрясь, отвечал Коля и не узнал собственного голоса.
— Все? — добродушно усмехнулся батюшка. — Так ты знаешь больше меня. Поведай-ка нам историю о сновидениях египетского фараона.
— Пригрезилось как-то фараону…
— Приснилось, приснилось! — поправил священник.
Коля опешил. Проходивший в это время через залу дядька лукаво подмигнул ему глазом. Это еще пуще сбило его с толку, и он безотчетно начал по-прежнему:
— Фараону пригрезилось…
— Приснилось! приснилось! — еще настоятельней подчеркнул батюшка, а Дружинин как-то странно переглянулся с Кряжевым.
«Господи, помилуй! Да что же это такое? Он так твердо знал как раз эти фараоновы сны»…
— Да ты, милый, не смущайся, — заметил начальник пансиона. — Говори, как Бог на душу положить.
Благодаря такой поддержке Коля, вообще неробкого десятка, опять оправился и уже без запинки рассказал о фараоновых коровах, причём для наглядности показывал руками и размеры тучных и тощих коров.
— Bene, bene! — похвалил его тут законоучитель-латинист.
Заставив его прочесть еще одну-другую молитву, он перешел к другой своей специальности — латыни.
— Вот латинская хрестоматия. Переведи-ка мне сию статейку на русский язык.
По счастливой случайности, Коля у своего последнего учителя переводил уже раньше ту же статью; поэтому и теперь удачно справился с нею.
— Bene, bene, optime! — одобрил батюшка. — По закону Божию и латыни к приему сего юнца препятствий у меня нет.
Коля совсем ободрился. Когда затем сам Кряжев стал экзаменовать его из остальных предметов: четырех правил арифметики, русской грамматики и французских переводов, — ответы его вполне удовлетворили и Кряжева и Дружинина.
— А теперь, ваше превосходительство, смею надеяться, не откажете выкушать у нас чашку чаю? — попросил Кряжев своего начальника.
— С удовольствием.
— Так сын мой, стало быть, принят? — спросил, подходя к ним, Пирогов-отец.
— Да, да, еще бы! — отвечал Кряжев. — Обождите минутку: сейчас выйдет к вам моя супруга, Анна Ивановна; она ведает в пансионе всею хозяйственною частью.
Отец успел только обнять и расцеловать сына, как в дверях появилась хозяйка, пожилая, полная и видная барыня, так же, как и её муж, в серебряных очках, которые её серьезным чертам придавали еще больше строгости.
— Здравствуйте, г-н майор, — заговорила она деловым тоном. — Как вам угодно сдать к нам вашего сына: пансионером или полупансионером?
— Полупансионером, — отвечал Пирогов-отец. — Ведь мы живем здесь по соседству; пускай хоть вечер-то и ночь проводит под родной кровлей.
— В гостях хорошо, а дома лучше? Ваша правда. Условия наши вам ведь небезызвестны?
— Как-же-с, Василий Степаныч намедни еще сообщил мне их.
— Так с завтрашнего дня, значит, и присылайте его к нам, — продолжала Анна Ивановна, своей пухлой рукой ласково проводя по волосам нового полупансионера. — Тебя, дружок, как по имени зовут?
— Николай.
— А дома у своих как?
— Коля.
— И я буду звать тебя так же. Мы скоро, я уверена, станем добрыми друзьями. У нас с Васильем Степанычем нет ведь собственных детей, так все наши питомцы для нас те же родные дети.
Голос говорящей внезапно так смягчился, что Коля в невольном порыве прижал к губам приласкавшую его руку. К этой же руке он с тем же чувством благодарности прикладывался потом ежедневно после каждого обеда, наравне со всеми остальными питомцами Кряжевых.
Кормила их Анна Ивановна сытно и вкусно, сама председательствуя за столом; сопровождала их всегда вместе с мужем и в церковь; а тех, что в наказание за леность или шалость были оставлены без обеда и отбывали свое наказание в классной комнате, она навещала там и утешала добрым словом. Ту же поистине материнскую заботливость с её стороны пришлось вскоре испытать и Коле Пирогову.
Глава четвертая.
Танец «матлот».
Однажды, в ожидании учителя, воспитанники сидели уже в классе по местам. Но учитель почему-то запоздал. Мальчики болтали, шумели; Коля, по натуре живчик, не отставал от других. Тут два соседа его заспорили о том, как танцуют модный тогда танец «матлот».
— Да я покажу вам, как его танцуют, — неожиданно вызвался Коля.
— Ну да! Ты, Пирогов, и простого галопа танцевать не умеешь.
— А матлот умею.
— Где-ж ты ему научился? Дома, что ли?
— Да, дома.
— Ну-ка, покажи.
Коля вскочил с лавки на стол и начал выделывать такие уморительные скачки и пируэты, что весь класс покатился со смеху, захлопал в ладоши:
— Ай да Пирогов! Браво, браво!
Вдруг на пороге выросла отлично-знакомая всем плотная фигура с пунцовым лицом, в серебряных очках и общий гам был покрыт громовым голосом:
— Это еще что за балаган?
Все мигом затихло, а танцор, как привидение на сцене, исчез в провале — меж двух столов.
Но это его не спасло: он был вытащен из-под лавки и должен был добровольно подставить обе ладони, чтобы получить несколько «палей» плашмя линейкой.
— А теперь марш в угол и на колени! После урока ты останешься здесь, в классе, и просидишь без обеда.
Вот так срам: и «пали» линейкой, и стояние в углу на коленях, и голодовка! Недостает только розог… (В Кряжевском пансионе, в виде тягчайшей меры, полагались, по статуту, и розги, но на деле они применялись очень редко).
А что за скука, что за тоска — сидеть этак одному в пустом классе! И как обидно: щелкать зубами голодным волком, когда другие в столовой объедаются твоим любимым блюдом (ведь нынче на третье должны быть вареники?), да еще, пожалуй, шуточки отпускают на твой счет… Вот тебе и матлот!
За окошком крики, визг и смех… Значит, они уже в саду; играют в лапту или в городки. Посмотреть, что ли, в окошко? Да нет, зачем? Только хуже себя раздразнишь… О, Господи, за что такая жестокость? за что?!..
Прикорнув на ступеньке учительской кафедры, Коля закрыл лицо руками, не замечая, как у него между пальцев сочатся слезы. Вдруг на склоненную голову его легла мягкая женская рука, послышался участливый голос:
— Полно, ну, полно! Сам ведь провинился, а теперь вот плачешь.
— Я не плачу, Анна Ивановна… — пробормотал Коля, украдкой утирая глаза.
— Мальчику и нельзя плакать, — продолжала г-жа Кряжева и, опустившись рядом с ним на ступеньку, обняла его вкруг плеч. — Я накормила бы тебя, но это против наших правил…
— Да я ничуть не голоден.
— Не голоден? И чудесно: завтра пообедаешь тем плотнее. Я отложила уже для тебя порцию вареников.
— Нет, нет, Анна Ивановна, я не хочу ничего лишнего против других.
— А что же ты еще любишь? Кажется, компот?.. Да говори же, любишь?
— Люблю…
— Так на завтра я закажу компот. А на Василья Степаныча ты, миленький, не серчай. Он строг, потому что с вами, школярами, без строгости невозможно. Он хочет сделать из вас не шалопаев и тунеядцев, а работящих, порядочных людей. Сам он вам живой пример. Работай, набирай в голову побольше полезных сведений, — и выйдет из тебя недюжинный тоже человек, будут уважать тебя во всей Москве, а с Божьей помощью — и во всей России.
Ободряя так наказанного шалуна, почтенная супруга содержателя пансиона не подозревала, конечно, что пророчествует ему даже слишком мало: что его ожидает не всероссийская только, а всемирная известность.
Добрые слова её упали на благодарную почву. Сколько раз потом, принимаясь за уроки к следующему дню, мальчик вспоминал этот разговор, чтобы заставить себя добросовестно исполнить заданное и по нелюбимым предметам: латыни и математике.
Зато, с каким увлечением он занимался у учителя русского языка Войцеховича! И внешним своим видом Войцехович внушал уже безотчетное к себе уважение: сгорбившись как бы под тяжестью давивших его дум, он глядел своими голубыми глазами рассеянно-серьезно, точно ничего и никого вокруг себя не различая. Но во время урока в этих тусклых глазах разгорался вдруг светлый огонь. Разбирая с учениками оды Державина, басни Хемницера, Дмитриева, Крылова, стихотворения Жуковского, Гнедича, Мерзлякова, он своими объяснениями умел ярко осветить наиболее удачные места и придать всей пьесе живой интерес. Читал он с учениками в классе также отрывки из русской истории Карамзина, из его «Писем русского путешественника», из «Пантеона русской словесности», а после классов давал им те же книги для чтения в свободные часы. Для письменных же сочинений их он выбирал темы из древней или русской истории; рассказав им сперва про какого-нибудь исторического героя, он предлагал им затем письменно передать рассказанное с собственным их мнением о характере и действиях героя. Благодаря этим пересказам Коля Пирогов заинтересовался и историей, а в русском языке оказал такие успехи, что у Войцеховича стал первым учеником. Останься он долее под влиянием этого выдающегося словесника, быть может, из него, как знать, выработался бы постепенно и замечательный писатель. Но судьба решила иначе: совершенно неожиданно он был вынужден покинуть пансион Кряжева.
Глава пятая.
Семейные невзгоды. — «Приготовитель» Феоктистов. — Случайные просветители: Кнаус и Березкин.
Пришла беда, — отворяй ворота. В течение второго года пребывания Коли в пансионе на семью Пироговых обрушились беда за бедой.
Старшая сестра Коли, Екатерина, выйдя замуж, после первого же ребенка смертельно заболела и скончалась.
У второй сестры, Пелагеи, временами стали проявляться признаки душевного расстройства.
Второй брат, Амос, которому было уже 15 лет, заразился от школьного товарища корью, и эта детская болезнь, сама по себе вообще не опасная, свела его также в могилу.
Старший брат, двадцатилетний Петр, всегда отличавшийся легкомыслием, все более сбивался с пути: находясь уже на гражданской службе, он к своим служебным обязанностям относился очень небрежно; целые ночи напролет проводил за карточным столом и для уплаты крупного карточного долга самовольно взял деньги даже из казенного сундука. Отец не замедлил пополнить растрату. Но сын не унимался и отцу то и дело приходилось платить по представляемым от его имени счетам. В довершение всего, юноша обвенчался с дочерью какого-то унтер-офицера, и родители узнали о том только тогда, когда молодые приехали из-под венца.
Всех ближе принимала все это к сердцу бедная мать. Глаза её не высыхали от слез, и, прежде такая цветущая здоровьем, она в один год отцвела, состарилась на десять лет. Когда же двое её младших детей, Анна и Коля, старались ее утешить, она еще горче заливалась слезами:
— Лишь бы вас-то, мои милые, Господь сохранил. На вас, меньших, теперь вся наша надежда.
— Слышишь, Коля? — говорила тогда Анна. — В хозяйстве я помогаю маменьке, насколько у меня есть сил и уменья. А уж ты, голубчик, смотри, учись, чтобы стать опорой семьи.
Такой опорой был до тех пор отец. Но чаша испытаний их еще не исполнилась. Состоя казначеем в казенном провиантском депо, старик Пирогов получил ордер на выдачу 30-ти тысяч рублей одному комиссионеру, командированному на Кавказ. Деньги он выдал, но упустил при этом какую-то формальность. Комиссионер же не довез денег по назначению, а по пути бесследно скрылся. С кого было вернуть казенное добро? Стали проверять документы, усмотрели промах казначея; ну, стало быть, он и ответствен в пропаже! Суду его не предали (злого умысла у него, очевидно, не было); но ему велели подать в отставку, а дом его с мебелью и лошадьми описали и продали с публичных торгов. С последним скарбом, не вошедшим в опись, пришлось перебраться на маленькую частную квартирку.
— Ну, Коля, — объявил отец младшему сыну: — ты видишь, каково теперь мое положение. С голоду мы не помрем: я займусь частными делами. Но платить за твой пансион у Кряжева мне уж не по силам.
Коля повесил нос.
— Я это очень хорошо понимаю, папенька, — сказал он. — Но без образования что из меня выйдет — простой ремесленник? А я учился так охотно…
— То-то и горе! Из тебя, наверное, вышел бы незаурядный человек.
— Что бы тебе, Иван Иваныч, посоветоваться опять с Мухиным? — заметила мать Коли. — Он ведь и нашему Пете достал казенное место.
— А что-ж, и вправду! — согласился муж. — Ефрем Осипович — золотой человек: что он посоветует, то и благо.
Не откладывая дела в долгий ящик, отец с сыном отправились к Мухину, тому знаменитому доктору и университетскому профессору, которого копировал Коля, играя в «лекаря». Выслушав Пирогова-отца, Мухин задал его сыну несколько вопросов по школьным предметам. Ответы были настолько уверенны и толковы, что Мухин, видимо, остался доволен.
— Способности у мальчика, кажется, недюжинные, — сказал он. — Было бы грех не развить их.
— Вот именно! — подхватил отец Коли. — Учителя в пансионе им не нахвалятся; Кряжев так и говорил мне, что из пансиона прямая дорога ему в университет.
Опершись головой на руку, Мухин задумался.
— А тебе, дружок, который теперь год? — спросить он.
— Четырнадцатый.
— Только-то? Гм… В университет к нам принимают молодых людей не моложе шестнадцати.
— Да разве по познаниям своим он мог бы быть уже принят? — спросил Пирогов-отец.
— Не совсем. Но до приемных экзаменов у него впереди еще полгода; нанять хорошего подготовителя…
— Но как же на счет возраста?
— Придется, не в пример другим, допустить маленькую уловку: показать его года на два старше.
Коля от радости готов был броситься доброму советчику на шею.
— Я вам так уже благодарен, Ефрем Осипыч!..
— Благодарность свою ты лучше всего докажешь тем, что выдержишь экзамен. А что до приготовителя, Иван Иваныч, — обратился Мухин к отцу, — то его вам укажет Кондратьев, секретарь нашего университетского правления: между студентами у него есть всегда большой выбор.
Так Пирогов-отец и поступил. Через два дня у Коли был уже «приготовитель» — студент-медик Феоктистов.
Накануне еще Коля был на уроках в Кряжевском пансионе. На душе у него было и грустно и весело: ведь он вскоре будет студентом! Во время рекреации играя в последний раз с товарищами «в войну», он в небывалом задоре выказывал чудеса храбрости и оставил на память о себе несколько синяков и оторванных пуговиц. А на другой день придя окончательно проститься, он не утерпел прихвастнуть, что сам великий Мухин, нашел его будто бы совсем уже подготовленным для университета.
— Если б осенью при переэкзаменовке кому-нибудь из вас, господа, понадобился репетитор, — прибавил он в заключение, — то прошу ко мне: я с удовольствием подготовлю.
Кряжев расстался со своим чуть ли не лучшим пансионером с видимым сожалением и выдал ему аттестат, в котором значилось, что он «обучался с 5 февраля 1822 года катехизису, изъяснениям литургии, священной истории, российской грамматике, риторике, латинскому, немецкому и французскому языкам, арифметике, алгебре, геометрии, истории всеобщей и российской, географии, рисованью и танцеванью с отличным стараньем при благонравном поведении».
Самому Коле особенно жаль было расстаться с почтенной супругой Кряжева, Анной Ивановной: когда она на прощанье его благословила и поцеловала в голову, капнувшая ему на щеку из глаз её слеза заставила и его невольно прослезиться.
Еще до приглашения «приготовителя» Коля успел получить кое-какие отрывочные сведения по естественным наукам и медицине от двух старых знакомых, своего отца. Один из них, Кнаус, был известный всей Москве старичок-оспопрививатель екатерининских еще времен, прививший оспу всей семье Пироговых. Верный моде XVIII века, он до конца жизни ходил, в порыжевшем от времени парике, в коротких черных, с пряжками, панталонах, выше колен, в белых, чулках и мягких плисовых, сапогах. Во все табельные дни из года в год этот оригинал являлся завтракать к Пироговым. Однажды, откушав, он достал из кармана черный полированный ящичек, а из ящичка — какой-то блестящий инструмент.
— Знаешь ты, что это за штука? — спросил он.
— Не знаю, Андрей Михайлыч, — отвечал Коля.
— Это, братец ты мой, микроскоп. Достань-ка какой-нибудь листочек от растения.
На окнах стояло несколько цветочных горшков. Коля оторвал листок и подал старику. Тот отделил крошечную частичку листка, положил ее между двух стеклышек и наставил инструмент.
— Приложи-ка глаз к этой трубочке.
Приложил Коля глаз и пришел в неописанное изумление.
— Неужели, Андрей Михайлыч, это тот самый листочек?
— Разумеется.
— Но отчего теперь все жилочки так ясно видны?
— Оттого, что стекла здесь сильно выпуклые: увеличивают предмет в пятьдесят раз.
— Но тогда и муха должна представиться в целого слона?
— Ну, хоть и не в слона, — усмехнулся Кнаус, — а все-таки в воробья. Впрочем, целой мухи в этот микроскоп и не увидеть.
И пойманная муха должна была во славу науки расстаться сперва с крылышком, потом с ножкой.
После того Кнаус не раз еще приносил с собой свой микроскоп, и Коле все более раскрывался невидимый простому глазу мир чудес.
Другим случайным просветителем его явился старик-подлекарь лазарета московского воспитательного дома, Березкин. Заметив врожденные врачебные наклонности мальчика, он очень охотно делился с ним своей премудростью и, в знак особого расположения, подарил ему сборник с описанием, на латинском языке, растительных веществ, употребляемых в медицине.
Молодой «приготовитель», студент Феоктистов, впрочем, очень скоро отодвинул обоих стариков на второй план. Приходил он к ученику нередко с пачкой медицинских книг под мышкой. Коля в своей ненасытной любознательности тотчас набрасывался на них, разглядывал рисунки по анатомии, просматривал рецепты и надоедал учителю бесконечными расспросами, удивляя его и своими собственными познаниями.
— Да откуда вы-то об этом знаете? — спросил раз Феоктистов, когда Коля стал с полною уверенностью возражать ему насчет действия какого-то лекарства.
— А из книжки Григория Михайлыча Березкина, — отвечал Коля. — Там все есть. Вот сами посмотрите.
И он подал Феоктистову полученный от Березкина дорогой ему сборник.
— Старьё! Старьё! — презрительно заметил Феоктистов перелистывая книгу. — Вот станете студентом, так просите купить вам фармакологию Иовского, в переводе с немецкого Ширенгеля.
— Фармакологию? А это, Василий Феклистыч, что за наука?
(Феоктистов по отчеству хотя и именовался в действительности «Феоктистовичем», но Пироговы, называли его Феклистовичем»).
Студент оглядел неуча свысока.
— Фармакология — врачебное веществословие.
— Ве-ще-ство-словие… — протянул Коля. — Натощак и не выговоришь! А стоить та фармакалогия не очень дорого?
— Рубля три, а то и четыре.
— Ой-ой, кусается! Ну, да все равно, непременно попрошу купить.
Раз как-то Феоктистов принес с собой список своих университетских лекций. Коля тотчас занялся этим списком.
— Вот и фармакология! Читает ее профессор Котельницкий. А хорошо он читает?
— Изрядно. Но на первом курсе вы его еще не услышите.
— Жаль! А вот Лодер — анатомы человеческого тела. Должно быть, страшно интересно!
— У почтеннейшего Юста-Христиана Лодера несомненно; он у нас знаменитость.
— Но все же не то, что Мухин? Где он тут?.. Ах, вот: Ефрем Осипович Мухин — физиология по Ленгоссеку. Его-то лекций я ни одной не пропущу.
Так будущий студент предвкушал ожидающие его в университете научные яства.
Глава шестая.
Поступление в университет — № 10 студенческого общежития.
Наконец подошел и сентябрь месяц (1824 г.) — время приемных испытаний в университете. До приемного возраста — 16 лет — Коле недоставало еще двух лет с лишком. Но если уж сам Мухин, декан медицинского факультета, находил его развитым не по летам, признавал возможным сделать для него исключение из общего правила, лишь бы была соблюдена формальность, то отцу мальчика было тем простительнее обойти общее правило. 11 сентября он подал в правление университета прошение, приложив, вместо метрики, свидетельство комиссии комиссариатского депо о том, что «по формулярному списку комиссионера IX класса Ивана Пирогова значится, в числе прочих его детей, сын Николай, имеющий от роду шестнадцать лет». Таким удостоверением удовлетворились и мальчик был допущен к экзамену.
Как обстрелянная птица, он на этот раз не испытывал уже прежнего трепета перед экзаменаторами, в числе которых был ведь и его благожелатель Мухин; он чувствовал, напротив, необычайный подъем духа. Когда профессор Чумаков задал ему какую-то геометрическую задачу, он не стал даже решать ее на доске, а объяснил наглядными жестами по воздуху.
— Хорошо, молодой человек, очень хорошо! — похвалил, его профессор, видимо пораженный уверенностью «молодого человека», у которого не пробивался еще и пушок над губой.
По алгебре Коле пришлось, между прочим, извлекать кубический корень. Второпях, он ошибся в одной цифре но вовремя заменил свой промах и тем окончательно убедил экзаменатора в своей сообразительности.
Как скаковой конь, раззадоренный скачкой, он брал один научный барьер за другим выказывая по каждому предмету даже более познаний, чем требовалось программой. Так, готов он был, сломя голову, скакать еще сколько угодно, если бы Мухин не протянул ему через стол руку и не поздравил его студентом.
— Надеюсь, — прибавил он, — что и в университете мы будем вами довольны.
Когда Коля с пылающим лицом, вышел, в приемную, ожидавший его здесь отец встретил его вопросом:
— Ну, что?
— Блестяще провалился.
— Правда?
Но, взглянув в смеющиеся глаза сына, он понял, что тот шутит.
— Врешь, врешь! Выдержал. Как тебе не грешно пугать так отца?
— Да вы, папенька, за меня разве боялись? Мне самому вовсе не было страшно.
— И я был крепко в тебе уверен; но всё ж таки, знаешь, на душе было как-то непокойно: чего на свете не бывает! Отсюда прямо отправимся к «верско» — отслужить благодарственный молебен.
После молебна, выйдя из часовни, старик прижал сына к сердцу.
— Не явное ли то благословение Божие, Николай, — сказал он, называя его уже не уменьшительным, а полным именем: — что ты в столь раннем возрасте попадаешь в университет? Правда, умом ты выше иного взрослого; но вкусы у тебя, я полагаю, еще мальчишеские: не откажешься на радостях выпить чашку шоколаду?
— И две, папенька, с удовольствием выпью.
— Может быть, и с пирожками?
— И с удовольствием и с пирожками!
Оба так громко рассмеялись дешевой остроте, что стоявший на углу извозчик оглянулся и осклабился.
— Не прикажете ли подать?
— Подавай: к кондитерской Педотти!
Первая лекция! С каким жадным вниманием молодой Пирогов следил за речью профессора, наскоро занося в тетрадку каждую его мысль. Литографированных лекций тогда еще и в помине не было; слушатели сами записывали за профессором по возможности дословно, а потом уже у себя на дому восстановляли набело всю лекцию.
Товарищи Пирогова, юноши уже шестнадцати и более лет, вначале сторонились нашего юнца. Сам он, впрочем, особенно и не искал их общества, так как, благодаря своему бывшему «приготовителю» Феоктистову, с первого же дня очутился среди старых студентов. Дело в том, что из прихода Троицы в Сыромятниках, где жили Пироговы, до университета на Неглинной было версты четыре, следовательно туда и обратно целых восемь верст. Феоктистов и предложил своему ученику завтракать у него в студенческом общежитии, где он помещался в № 10 вместе с пятью однокурсниками.
Войдя в первый раз в № 10, Пирогов не застал еще там хозяев, у которых лекция почему-то затянулась. Таким образом он имел возможность хорошенько оглядеться. Комната была настолько просторна, что по стенам разместилось шесть кроватей со столиками. На столиках лежали груды тетрадей и книг, а на одной кровати валялась фуражка. Пирогов заглянул в фуражку и прочел в ней латинскую надпись:
«Hunc pil (eus) (продолжение было стерто головой владельца.) fur rapidis manibus tangere №li; possessor cujus fuit semperque erit Tshistoff, qui est studiosus quam maxime generosus».
Зная хорошо по-латыни, он сразу понял надпись: «Эту шляпу…. вор проворными руками трогать не смей; владельцем каковой был и всегда будет Чистов, студент весьма родовитый».
Видно, этот Чистов — латинист. Каков-то он, как товарищ?
Тут старик-дядька внес шипящий самовар и съестное: ситник и колбасу; а затем один за другим стали входить и жильцы-студенты. Все они были более или менее усаты, бородаты и, видимо, недоумевали, откуда взялся у них в камере безбородый молокосос. Подоспевший Феоктистов рассеял их недоумение. Снисходительно пожимая руку представляемого им «зеленого» товарища, они продолжали между собой начатый разговор и закурили трубки. Один же, волосатый, темнолицый брюнет, развалился на той самой кровати, где лежала фуражка с латинскою надписью.
«Так вот он, Tshistoff, studiosus maxime generosus!» — сообразил Пирогов и с таким любопытством уставился на Чистова, что тот сам обратил на него внимание и спросил его:
— Скажите-ка, с какими латинскими авторами вы знакомы?
Пирогов покраснел и не знал, что ответить.
— Ну, что же? — продолжал Чистов. — От Феоктистова вы, я чай, немногому научились? Где ему! В латыни он профан и скандировать даже не умеет.
«Odь profanum vulgus et arceo:
Favete linguis! carmina №n prius
Audita Musarum sacerdos
Virginibus puerisque canto» *).
*) «Темную чернь отвергаю с презрением:
Тайным доселе внемлите напевам;
Жрец, вдохновенный Камен повелением,
Мальчикам ныне пою я и девам». Пер. Фета.
— Знаете вы, откуда это?
— Кажется, из Горация? — робко отозвался Пирогов, исподлобья косясь на Феоктистова. Но тот разливал чай и не слышал, или делал вид, что не слышит.
— Верно; но Горацию я предпочитаю еще Овидия, — продолжал Чистов и взял со своего ночного столика книжку. — На сон грядущий я перечитываю его «Метаморфозы». Вы их читали?
— Читать не читал, но слышал о них от Василья Феклистыча…
— Ну, так я сейчас вам что-нибудь прочитаю. Садитесь-ка около меня.
Он указал на край кровати и стал читать. «Скандировал» он так звучно и с таким одушевлением, что увлек юного слушателя, которому, к собственному его удивлению, почти все оказалось понятным. Чистов, как большинство его товарищей, был из семинаристов, но сделан он был (по выражению Пирогова) из красного дерева, а те только из елового.
Предоставляя почитателю римских классиков услаждаться «Метаморфозами», остальные студенты за чаем и колбасой рассуждали и спорили о современных вопросах. Пирогов, следя за гекзаметрами Овидия, краем уха все-таки подхватывал целые фразы. Назывались и царствовавший тогда император Александр I, и недавно скончавшийся Наполеон, и новое светило родной литературы, Александр Пушкин.
— Наполеон — вјтъ гений, так гений! — восклицал один из спорщиков. — Как Пушкин-то его воспел!
— Что твой Пушкин! — возражал другой. — Вся ода его — какой-то винегрет!
— Винегрет! — возмутился первый и, схватив стул, треснул им об пол. — Кто смеет говорить против Пушкина? Слушайте и сами судите, господа:
«Чудесный жребий совершился:
Угас великий человек»…
Декламатор, по фамилии Катонов, был пламенным почитателем знаменитого актера Мочалова. Мочалов, крупный самородный талант, брал, как говорится, «нутром». Катонов, подражая своему идеалу, но не обладая его природным даром, не знал меры, исступленно размахивал по воздуху стулом и орал во всю мочь, с пеною у рта, с налитыми кровью глазами.
У Пирогова сердце замерло. Стихами Пушкина он восхищался, а за этого бесноватого ему в то же время было совестно.
Тому, впрочем, не дали кончить. Один из товарищей, Лобачевский, высокий и плечистый малый, вырвал у него из рук стул.
— Замолчишь ли ты наконец?
Декламатор не сразу сдался.
— А последний-то куплет каков:
«Да будет омрачен позором
Тот малодушный, кто в сей день
Безумным возмутит укором
Его развенчанную тень!
Хвала!.. Он, русскому народу
Высокий жребий указал,
И миру вечную свободу
Из мрака ссылки завещал».
Последние строки вылетали из уст Катонова уже в виде отрывистого рева, потому что Лобачевский взял его за плечи и затряс изо всех сил.
Доревев, Катонов не на шутку схватился со своим противником. Озлобление, как известно, утраивает силы, а потому силачу Лобачевскому, несмотря на его телесное превосходство, нелегко было справиться с озлобленным. Товарищи же обоих потешались над ними, поощряя то того, то другого:
— «То сей, то оный на бок гнется!»
— Ай, да Лобачевский!
— Не поддавайся, Катонов, не поддавайся! Дай ему подножку!
— Нет, господа, это нечестно! Гладиаторы дрались начистоту.
Неизвестно, кто еще взял бы верх, не случись «инцидента» с Лобачевским: у него сломался каблук, и, споткнувшись, он в своем падении увлек на пол, и противника. Зрители разразились таким гомерическим хохотом, что товарищи их из соседнего номера не утерпели также заглянуть к ним. Но оба борца уже в конец запыхались и добровольно прекратили борьбу.
С приходом новых собеседников завязалась беседа и на новые темы. Говорили о каком-то «масонском» обществе, о недавних похождениях удалого студента — поэта Полежаева; а того больше еще о профессорах.
— Ну, братцы, угостил же нас нынче Мудров! Ручки-ножки не грех ему расцеловать! Так и предупредил уж вначале: «Запишите себе, господа, от слова до слова: этого вы нигде не найдете. Сам я на днях только узнал это из Бруссе». Да как пошел, пошел!…
— Да, всех прежних божков теперь по боку.
Подавай нам Бруссе, Биша, Пинеля.
— А в клинике-то, в клинике как он отделал рутину! «Вот, — говорит, — смотрите, наш тифозный после 80 пиявиц почти уже на ногах; а пропиши я ему, — говорит, — по-прежнему валериану да арнику, он давно лежал бы уж на столе».
— Еще бы! Наш Матвей Яковлич — не профессор, а восьмое чудо света.
— В таком случае Лодер — девятое.
— Правда; невеличка птичка, да ноготок востер. Как ловко ведь он обер-полицеймейстера поддел!
— Когда?
— Да на днях же, на параде. Едет наш Юст-Христиан туда в своей карете, а обер-полицеймейстер скачет наперерез, напустился на кучера: «Куда прешь, болван! Назад, назад!» Лодер же из кареты машет рукой кучеру: «Вперед, вперед!» Тут обер-полицеймейстер уже к самому Лодеру: — «Да как вы, милостивый государь, смеете! Я — сам обер-полицеймейстер»…— «А я — сам Юст-Христиан Лодер. Вас знает одна Москва, а меня вся Европа. Ну, пошел!» — крикнул он кучеру — и был таков.
— Ха-ха-ха! Вот молодчина! Самого чёрта не боится.
— Не нарваться бы ему только на министра, когда тот будет к нам из Петербурга.
— А что?
— Да ведь министерство хочет запретить вскрытие трупов.
— Ну! Ты это сам сейчас выдумал?
— Какие выдумки! В канцелярию нашу пришел уже запрос: нельзя ли в анатомическом театре заменить трупы чем-нибудь другим?
— Да чем их заменишь-то?
— А очень просто чем: возьмет профессор этак носовой платок, привяжет один конец тебе к лопатке, другой к плечевой кости, да и потянет: «Вот вам, господа, musculus deitoiucus».
Опять дружный взрыв смеха.
Такие сцены и разговоры повторялись потом в присутствии Пирогова в № 10 каждый день, и вскоре он чувствовал себя там как рыба в воде.
Глава седьмая.
Кости и гербарий. — Философствование.
Несмотря на то, что Пирогов был на несколько лет моложе обитателей № 10, его острый ум и ненасытная любознательность приобрели ему общее их расположение, и они стали относиться к нему, как бы к младшему брату. Как-то раз Феоктистов показывал своему бывшему ученику имевшиеся у него некоторые части человеческого скелета.
Пирогов не мог подавить вздоха:
— Когда-то и у меня будет такой ассортимент костей!
— Да у меня есть тут лишние позвонки и ребра, — сказал Феоктистов. — Хотите, берите себе.
Пример его оказался заразителен: Чистов тут же предложил Пирогову человеческую руку, а Катонов — ногу.
— Если уж на то пошло, — сказал Лобачевский, — то у меня найдутся для вас и черепные кости. Вот посмотрите-ка как они очищены: белее снега!
— Да сам-то ты откуда добыл их? — заметил один из товарищей: — у Лодера на лекции стащил?
— Грех сладок, а человек падок! Воровать отнюдь не в моих привычках: но не присвоить себе такой красоты — выше сил человеческих!
У старика-дядьки Якова нашелся кулек, и, уложив туда всю груду пожертвованных ему костей, Пирогов повез их на «Волочке» домой.
О «Волочке» — этом первобытном типе извощичьего экипажа Белокаменной — вряд ли кто-нибудь из современных москвичей еще помнит. То были большие дровни с самой простой подушкой. Садились седоки бочком, свешивая ноги почти до земли, а колени прикрывали грубой дерюгой или мешком для защиты от уличной грязи. Зато и плата была по экипажу; за конец в 8 верст – гривенник, а в 4 версты — пятак.
Пирогов на этот раз не пожалел пятачка; когда же, добравшись до дому, прошел с кульком в свою комнату, то позвал за собой туда мать и сестер.
— Отгадайте-ка, что у меня тут в кульке?
— Верно, провизия! — обрадовалась мать.
Сын самодовольно усмехнулся:
— Пожалуй, что и провизия; да какая?
— Уж не рыба ли на уху?
— Может быть, живая стерлядь? — досказала одна из дочерей. — Вот славно бы!
— Нет, я знаю что: поросенок! — подхватила другая дочь. — Верно, Николай?
— В университете у нас ни стерлядей, ни поросят пока не разводят, — отвечал Николай и высыпал из кулька на стол свои драгоценные кости; — это — провизия, но не для желудка, а для ума!
Разочарование матери и сестер было, понятно, полное.
Когда он тут начал раскладывать отдельные части скелета по ящикам комода, к нему вышла поздороваться старая няня Михайловна, пришедшая как раз из богадельни навестить своих господ. Увидев, чем занять её питомец, набожная старушка руками всплеснула.
— Матушки мои! Царица Небесная! Да это никак кости человеческие?
— Человеческие, — подтвердил Пирогов и принялся рассказывать, для чего они будут служить ему.
Михайловна все еще не могла придти в себя и продолжала ахать и охать.
— Чем бы дать грешным костям покой в могилке, ты ими словно в бабки играешь!
— Этим бабкам, няня, никакой беды от того не сделается; будет им одна честь, что по ним научусь других людей спасать от могилы. А кстати вот покажу тебе также, что у нас в голове находится.
Михайловна слушала и только головой качала:
— Господи Иисусе Христе, помилуй нас! Какой ты у нас, Коленька, вышел разумник, да какой бесстрашник!
Некоторое время спустя у Пирогова зашла речь с Лобачевским о лекциях ботаники.
— Лекции лекциями, — заметил Лобачевский, — а без собственного медицинского гербария вам не обойтись.
— Да я и то летом собирал и сушил разные растения, — сказал Пирогов.
— Все, что под руку попадется и без всякой системы? Латинских названий их, чай, тоже не знаете? Так это у вас не гербарий, а сено! Вот у меня так гербарий: собрал его один ученый аптекарь-немец и всякое растение по Линнею {Карл Линней — знаменитый шведский ботаник (1707—1778)} определил. Хотите посмотреть?
— Как не хотеть!
Гербарий, в самом деле, оказался образцовый: до пятисот лекарственных растений были аккуратнейшим образом вложены в листы пропускной бумаги, и каждое снабжено соответственной латинской надписью. У Пирогова от зависти глаза разбежались.
— Да это сокровище, которому цены нет!
— Гербарий вам, значит, нравится? — сказал Лобачевский. — Так я вам его, так и быть, уступлю. Мне он все равно уже не нужен.
— Но у меня и капиталов таких нет…
— Да я возьму с вас дешево, самую божескую цену: 10 рублей ассигнациями. По рукам, что ли?
Опасаясь, как бы владелец «сокровища» еще не раздумал, Пирогов, не торгуясь, ударил по рукам и кликнул дядьку Якова:
— Уложи-ка мне это в ящик и снеси вниз.
— Да вот еще что, Пирогов, — добавил тут Лобачевский: — у вас ведь, слышно, есть дома взрослые сестры?
— Есть.
— Так попросите-ка которую-нибудь связать мне шелковый шнурок для часов.
— Непременно попрошу…
Уже по пути домой на извозчике его взяло раздумье: а что, коли свободных десяти рублей дома не найдется? Да и возьмутся ли еще сестры связать шнурок для совершенно чужого им человека?
«Ну, да уж теперь все равно поздно раздумывать; будь, что будет!»
Когда прислуга внесла тяжелый ящик в квартиру, первыми увидели его обе сестры.
— Что ты привез, Николай? Опять кости?
— Нет, целый гербарий!
— Гербарий? Это что такое?
— Засушенные растения.
— Да ведь все лето ты только и делал, что сушил растения.
— Как любитель. А это ученый медицинский гербарий; каждое растение в своем роде unicum {Единственное или редкостное}.
— Уникум, уникум… — шептали про себя сестры мудреное слово, не решаясь уже спросить брата, что оно означает.
А он бережно вынимал из ящика пачку пропускной бумаги за пачкой и комментировал отдельные растения:
— Вот Atropa Belladonna, по-русски сонная одурь. Atropos была у древних та из трех Парк, что обрезала нить жизни. Растение названо по ней, потому что сок его смертельно ядовит; в малых же дозах оно служит лекарством.
— Смертельно ядовито, говоришь ты? А ведь какая прелесть! Как наружность-то обманчива!
— Оттого-то ему и дано еще прозвище Belladonna — красавица. А вот это из того же семейства растет везде и у нас: Hyoscyamus niger, L… т.е. черная белена по Линнею.
— Но откуда ты, Николай, достал все это? Подарил тебе кто из студентов?
— «Подарил»! Прошу покорно! Таких благодетелей и с огнем не отыщешь, что дарили бы целые гербарии!
— Так, стало быть, купил?
— Стало быть.
— И не дорого?
— Дешевле пареной репы: за всю коллекцию 10 рублей ассигнациями.
— Да ты, Николай, с ума сошел! Где взял ты такие деньги?
— Пока-то они еще не заплачены.
— И слава Богу! Сейчас же отвези назад!
— Ну, нет; ни за что!
— Маменька! Посмотрите, что Николай опять натворил!
Хотя мать и любила своего меньшого больше всех остальных детей, но, узнав о его «сумасшедшей» покупке, тоже крепко осерчала и осыпала его горькими упреками.
— Ты отлично знаешь, что у нас теперь каждая копейка на счету, — говорила она, — а ты, не спросясь, швыряешь рубли за окошко! Папенька, наверное, не даст таких денег.
Сын стал оправдываться; но в горле у него уже что-то подступало; вот-вот из глаз брызнут слезы… Он не договорил и убежал вон в свою комнату. Здесь, уже не сдерживаясь, он кинулся на постель и зарыдал.
Наступил вечер. Сестры, одна за другой, приходили звать его сперва к чаю, потом к ужину. Уткнувшись лицом в подушку, он не отзывался. После ужина обе вместе пришли утешать его.
— Оставьте меня, прошу вас! — буркнул он в ответ. — Я перестану ходить на лекции, брошу совсем университет…
— Что за глупости, Николай! Как-нибудь уж мы постараемся достать тебе 10 рублей. Только успокойся!
Поутру, перед самым уходом его в университет, одна из сестер, действительно, сунула ему украдкой в руку десятирублевую ассигнацию. От кого ей удалось достать ее, — он так никогда и не узнал.
— А шелковый! шнурок мне вяжут? — справился Лобачевский, принимая от него ассигнацию.
— Вяжут, вяжут…
Сестрам, которые так великодушно выручили его, он не имел уже духу сказать о своем обещании Лобачевскому и затем всякий раз, когда тот напоминал ему о шнурке, он отделывался уклончивым ответом.
Потраченные на гербарий деньги не пропали даром: Пирогову открылся в нем неиссякаемый источник духовного наслаждения; перебирая каждый день растение за растением, он совершенно незаметно изучил все их признаки и уже без ошибки мог не только назвать, но и описать любое растенье. Лугом делая с товарищами ботанические экскурсии по окрестностям Москвы, он пополнял еще свою сокровищницу новыми экземплярами.
Что же сталось впоследствии с этим гербарием? Для будущего медика он сослужил уже свою службу. По окончании курса уезжая из Москвы, Пирогов оставил гербарий на сохранение у матери. Но с годами моль и мыши делали свое дело, и, чтобы попорченная уже коллекция пошла еще хоть кому-нибудь впрок, г-жа Пирогова отдала ее одному бедному студенту.
Постоянно вращаясь в кругу выпускных «стариков», Пирогов все более входил в их умственные интересы. Веселую болтовню у них зачастую сменяли горячие научные споры, подкрепляемые цитатами из учений мировых философов: Шеллинга, Гегеля, Окена.
«Двум мало-мальски образованным русским нельзя сойтись вместе (замечает по этому поводу Пирогов в своих посмертных записках), чтобы не заговорить тотчас же об отвлеченных предметах. Это, должно быть, признак молодой нашей культурности; все ново, зелено, незрело, не передумано, не перечувствовано, не осмыслено. Так и со мною: лишь только я выскочил из дома на волю и сблизился с университетскою молодежью, тотчас же давай слушать судить и рядить о материях отвлеченных. Почти с того же давнего времени у меня составилось и крепло верование, и я начал убеждаться в предопределении».
Свои «вольнодумные» взгляды он не стеснялся выражать и в присутствии матери. Когда же она недоумевала и ужасалась он с апломбом молодежи гордящейся нахватанными налету «философскими» воззрениями, ссылался на Шеллинга.
Мать вздыхала и крестилась.
— Прогневали мы знать Господа! С родным сыном не столковаться. Время-то какое настало! Куда это свет идет?
— Куда ему идти, маменька, и что такое вообще время? Прошедшего не воротишь, настоящего не поймаешь; а будущее — кто его ведает?
— Так-то так… Ох, ох, ох! Умный ты у меня, что и говорить; да как бы ум у тебя за разум не зашел.
Вспоминая в старости о своих старших товарищах, еще куда более крайних «вольнодумцах», Пирогов замечает, что скольких из них он видел впоследствии «тише воды, ниже травы», а самого рьяного встретил «тишайшим» штаб-лекарем, женатым и служившим отлично в госпитале…
Московская университетская молодежь того времени, подобно деритским и германским «буршам», немало также проказничала. Но наука и её представители уважались, аудитории во время лекций были полным-полны, и почти каждая лекция служила потом материалом для оживленного обмена мыслей.
Глава восьмая.
Смерть отца. — Дядя Назарьев. — Квартира с нахлебниками. — Профессора и студенты.
Частные дела, которыми Пирогов-отец занялся по выходе в отставку, давали ему возможность кое-как перебиваться с семьёй изо дня в день. Но, сняв с себя нарядную военную форму и облекшись в бесцветное партикулярное платье, он и сам точно обесцветился, стал другим человеком: прежней живости характера и энергии не осталось и следа. Среди бела дня он ложился на диван и засыпал крепким сном; ко всяким житейским неприятностям относился с полным равнодушием и временами только хватался за голову; а на вопрос: что с ним? — отвечал отрывисто и нехотя:
— Да так… голова…
В половине апреля 1825 года, возвратившись из бани он выпил квасу, быть может слишком холодного: ночью ему стало так худо, что пришлось послать за лекарем. Тот прибегнул к обычному тогда средству — кровопусканию. Больному стало легче; через несколько дней он поднялся опять на ноги и начал выходить в сад. Но здоровье его, должно быть, внушало еще серьезные опасения, потому что лекарь нашел нужным пригласить на консилиум самого Мухина. Прописанная Мухиным Magnesia uiphurica сделала свое дело: больной почувствовал себя значительно бодрее и не отказался даже выехать вместе с детьми на народное майское гулянье в Сокольниках.
Войдя поутру 1-го мая в столовую, сын застал уже там обоих родителей за кофеем.
— А погодка-то какая! — говорил он, здороваясь: — совсем летняя, как на заказ. Так мы с вами, папенька, нынче в Сокольники?
В ответ старик пробормотал что-то невнятное.
— Ох, уж эти вещие сны! Не дай Бог! — вздохнула мать.
— Что такое, маменька? — спросил сын. — Папенька видел вещий сон?
— Да, будто кто-то говорит: «Слышали вы, что Иван Иванович Пирогов помер?»
— Что это вы, маменька! Полноте. Разве можно верит снам?.. Когда мне вернуться из университета?
— Да так, к часу. Сперва откушаем.
— Великолепно. Ровно в час я буду дома.
Обещание свое он сдержал и еще за несколько минут до часу приближался к родному дому. Но, Боже ты мой, что бы это значило? Перед домом целое сборище… Светлое настроение разом сменилось у него тяжелым предчувствием.
Так и есть: ворота настежь, а из открытых окон доносятся женские вопли.
Уж он в сенях, в передней, и открывает дверь в залу. По середине залы — стол, а на столе — одетое в военный мундир тело с раздутым, темно-багровым лицом…
В глазах у Николая помутилось и, не подоспей сестры, он грохнулся бы на пол.
После, уже ему рассказали, что около полудня с отцом сделалось дурно. Поспешили дать ему лекарство, прописанное Мухиным. Но когда ложку подносили ему ко рту, он откинулся назад, побагровел и с хрипом скатился со стула. По отзыву врачей, то был апоплексический удар.
Понятно отчаяние всей семьи, лишившейся в нем любимого мужа, отца и кормильца. Беспутный старший сын Петр — и тот был глубоко потрясен. Идя за гробом отца рядом с младшим братом, он не мог также сдержать слез и схватил брата за руку.
— Слушай, Николай, — сказал он: — я немало причинил горя покойному, особенно картами; они меня погубили. Поклянись мне на гробе отца, что никогда не возьмешь карт в руки.
— Да я никакой игры, кроме дурачков да мельников, и не знаю, — отвечал Николай.
— Но тебя могут уговорить сесть в азартную игру или крупную коммерческую; а ты, не умея играть, всегда будешь в проигрыше. Поклянись же никогда не играть на деньги.
— Клянусь Богом!
И он сдержал свою клятву.
Как только тело покойного было опущено в могилу, в осиротелый дом постучались кредиторы. Наличных денег не было, и на удовлетворение долгов приходилось расстаться с последним своим скарбом.
Но свет не без добрых людей. Однажды под вечер безутешная вдова вместе с двумя дочерьми и младшим сыном обсуждали в который уже раз вопрос о том, куда им деться, если домохозяин потребует очистить квартиру. Как вдруг отворяется дверь, и входит сгорбленный человечек в потертом вицмундире и с Владимирским крестиком в петлице. Г-жа Пирогова поднялась ему навстречу.
— Андрей Филимоныч! Вы-то хоть нас не совсем забыли. Спасибо, родной!
Гость, Андрей Филимонович Назарьев, приходился покойному Пирогову-отцу чем-то в роде троюродного брата и служил заседателем в каком-то суде.
— Зачем забывать, матушка, — отвечал он тихим голосом, целуя хозяйке руку. — Слава Богу, свои люди. А я к вам, матушка, вот за чем. Скажите-ка откровенно: оставил вам Иван Иваныч (царство небесное!) на прожитье какие капиталы, аль ничего не оставил?
— Какие уж, батюшка, капиталы! Последних пожитков из-за долгов мы должны решиться, и не нынче — завтра нас сгонят с квартиры.
— Так что и голову вам с детками негде преклонить? Так вот-с, у меня, как вам известно, есть свой домишко; пока что перебирайтесь-ка к нам.
— Да мне, Андрей Филимоныч платить ведь нечем…
— Что вы матушка! Нешто с вас родных, я возьму плату?
Г-жа Пирогова была тронута до слез.
— Но ведь дом-то у вас небольшой, и у самих три дочери…
— Ну, две-то еще подростки; могут спать со старшей сестрицей. Внизу у нас ведь целых четыре горницы; на нас хватит. Мезонин же с чердачком к вашим услугам. Чем богат, тем и рад.
Так Пироговы на другой же день переселились к добряку, домик которого находился у Пресненских прудов в приходе Покрова в Кудрине. Из одного окна мезонина открывался вид на Девичье поле с Воробьевыми горами в отдалении. Сколько раз потом молодой Пирогов стоял у этого окна и невольно вздыхал по старом отцовском доме, из верхнего этажа которого можно было видеть Андроньев монастырь, памятный ему еще с раннего детства.
Между его сестрами и барышнями Назарьевыми установились вскоре дружеские отношения. Сам же он предпочитали болтовне с хозяйскими дочками серьезный разговор с самим хозяином.
Возвращался Андрей Филимонович со службы всегда с туго набитым портфелем и после обеда садился опять за свои бумаги. Скрипя пером, он потягивал дым из черешневого чубука, похлебывал холодный чай из стакана и иногда только с улыбкой поднимал голову, когда канарейка, висевшая над окном в клетке, звонкою трелью внезапно прерывала нить его мыслей.
С той же благодушною улыбкой оборачивался он и к «племяннику» Николаю, когда тот, соскучась у себя в мезонине, спускался к нему вниз.
— Садись, племянничек, садись, побеседуем, — говорил он и клал в сторону перо.
Случалось, что Николай, по пути из университета, заходил также к «дяде» в суд у Иверских ворот. Тогда Андрей Филимонович брал его с собой в соседний трактир напиться чаю, а потом вез и домой на извозчике.
Раз Назарьев обратил внимание на обувь Николая.
— Эге-ге! Да у тебя, я вижу, отстала подошва.
— Чинить этих сапог уже не стоит, — отвечал Николай: — они вконец истоптались.
— Так брось их. Вот кстати и сапожная лавка.
И, войдя туда с племянником, он купил ему новые сапоги. Николай стал было благодарить; но Андрей Филимонович даже рассердился.
— Перестань, пожалуйста! Можно ли говорить о таких пустяках?
Пользуясь у Назарьевых даровой квартирой, Пироговы держали, однако, свой собственный стол; точно также и все мелочные расходы они покрывали из своих средств. А какие у них были средства? Мать и дочери с утра до вечера сидели за шитьем на чужих. Когда приходилось слишком уж круто, они, скрепя сердце, сбывали последние свои брошки и кольца, столовые и чайные ложки. Да еще в большие праздники им присылались денежные подарки немногими старыми друзьями, как, напр., Латугиным, крестным отцом Николая. Как охотно сам Николай зарабатывал бы также что-нибудь частными уроками! Но на одно путешествие «пехтурой» в университет и обратно у него уходило по четыре часа в день; остальное время поглощали лекции и домашние занятия.
Так Пироговы перебивались около года. Тут они решились снять наемную квартиру и пустить к себе нахлебников. Мысль оказалась счастливой: вся квартира обходилась им в 300 р. ассигнациями или в 75 р. серебром в год, а первый же нахлебник, студент-математик Жемчужников, человек состоятельный, платил им ровно столько же за две комнаты со столом и чаем.
Лекции в московском университете как уже сказано, посещались тогда студентами усердно; из этого надо заключить, что профессора умели возбудить в молодых слушателях интерес к науке. Но у профессоров медицинского факультета был один общий недостаток; всё их преподавание было устное, без всяких практических демонстраций. Единственное исключение представлял профессор Лодер, демонстрировавший анатомию на больных и на трупах. Но и он не требовал от самих студентов практических занятий в препаровочной, так что ни один из них не умел обходиться на деле с хирургическими инструментами.
Впрочем, Пирогов сделал однажды шуточный опыт. Под свежим впечатлением операции, произведенной Лодером в клинике над Ильным страдавшим каменною болезнью, он отправился на базары купил бычачий пузырь, вложил в него кусок мела и зашел в общежитие.
— Что это у тебя, Пирогов? — полюбопытствовал один из студентов.
— А вот ложись-ка на стол, — узнаешь.
— Но для чего мне ложиться?
— Я сделаю тебе операцию: вырежу камень.
— Вздор какой! У меня, слава Богу, нет еще камня.
— А сейчас будет. Ложись, не бойся!
— Ложись, ложись, — поддержали Пирогова со смехом остальные товарищи и, схватив мнимо-больного за ноги и руки, разложили на столе.
— Лежи смирно, не шевелись! — приказал Пирогов; привязал пациенту, куда следует, бычачий пузырь и ножом вырезал оттуда мел, да так искусно, что заслужил общее одобрение.
— Ай да Пирогов! Из тебя выйдет хирург не хуже Лодера.
Это была, конечно, школьническая выходка, но она оправдывалась юным возрастом большинства тогдашнего студенчества, а в особенности самого Пирогова. Менее извинительны были шутливые проделки студентов над некоторыми из своих преподавателей.
Один профессор читал лекции по тетрадке; а так как глаза у него с холоду слезились, то, войдя с улицы в аудиторию, он отирал глаза платком, очки же свои клал пока на кафедру. Зная эту его привычку, студенты перед самой лекцией раздвинули раз на кафедре доски. Когда тут профессор положил опять очки на кафедру, те провалились в щель.
— Вот беда-то! Господа, не поможете ли мне достать очки?
— Сейчас, г-н профессор, сию минуту.
Столпились около кафедры.
— Сквозь щель рукой ведь не влезешь, да и все равно до дна не достанешь.
— Кочергой бы, другое дело.
— А что ж, у сторожа, верно, найдется.
Побежали за кочергой, давай выуживать ею очки.
— Помилосердствуйте, господа! — молит профессор. — Вы этак мне их, пожалуй, разобьете.
— Будьте покойны, г-н профессор: мы самым осторожным манером.
— Нет, нет, прошу вас, господа!
— Так разве что перевернуть кафедру?
Усилиями десятков рук кафедра перевернута, и после некоторой встряски очки, действительно, вываливаются на пол. Но стекла разбиты, оправа исковеркана.
— Эх, господа, господа! — вздыхает профессор. — Ведь говорил я вам! Ну, что же делать? Без очков я не могу читать; отложим лекцию до следующего раза.
А им того только и надо…
Одним из любимых развлечений было еще изгнание «чужаков», т.е. студентов других факультетов или совершенно посторонних лиц. С этой целью нарочно приглашали пациентов из университетской клиники. Едва, бывало, профессор начнет свою лекцию, как ему заявляют, что есть «чужаки».
— Где? — озирается профессор.
— А вон на задней скамейке.
В самом деле, там уселось несколько субъектов в больничных халатах.
— Что ж это, господа? — обращается к ним профессор. — Прошу вас оставить аудиторию.
— Гони их, гони! — подхватывает вся аудитория.
Халатники вскакивают и перебегают со стола на стол, а вслед им идет травля:
— Ату их! ату!
На лекцию другого профессора, страдавшего глухотой, шутники привели гарнизонного офицера-бурбона. Когда репетитор (студент, перекликавший слушателей по списку) крикнул о том на ухо профессору, передние ряды раздвинулись, и в заднем ряду приподнялся бравый воин в сером мундире с желтым воротником.
— Вы, г-н офицер, как сюда попали? — вопрошает профессор.
— Лекции публичные, — подсказывают офицеру соседи.
Тот, руки по швам, послушно повторяет.
— Что такое? — переспрашивает профессор, подставляя руку к уху.
Репетитор орет опять во все горло:
— Он говорит, Василий Гаврилыч, что лекции публичные.
— Пускай публичные, но для порядка в аудиториях нельзя терпеть чужаков.
Произносится это обычным благодушным тоном, без всякого повышения голоса. Ожидаемый эффект пропал, и армейца-облома, надоевшего и самим студентам, без церемонии выпроваживают.
— Слышали? Налево кругом, марш!
И тот военным шагом марширует к выходу, провожаемый хоровым пением:
«Изыдите, изыдите, нечестивии!»
Впрочем, подобные сцены происходили почти исключительно на первом курсе, и потому сами профессора относились к ним снисходительно, как к ребяческим шалостям. Многие из них говорили первокурсникам «ты», а профессор Мудров — «ты, душа», или в общем числе: «вы, бараны», в ответ на что раздавался смех.
Среди профессоров (были как аристократы, так и плебеи). Мухин, Лодер, Мудров, зарабатывавшие своей медицинской практикой большие деньги, разъезжали в собственных каретах на четверке с ливрейным лакеем на запятках. Коллеги их, существовавшие одним жалованьем и обремененные притом многочисленным семейством, плелись во фризовых шинелях пешком или на «Волочке» за пятак. Один из них, фармаколог Котельницкий, ходил сам каждое утро до лекций в Охотный ряд за кухонной провизией и, возвращаясь с полным кульком, нимало не смущался, когда навстречу ему попадались студенты.
Та же патриархальность существовала и в быте студентов. Ни особой для них формы, ни инспекции тогда не было еще установлено: каждый одевался, как хотел, и жизнь их текла беззаботно и привольно.
Тут наступил декабрь 1825 года. С новым царствованием повеяло другим духом. При обыске в общежитии под тюфяком одного студента были найдены «вольные» стихи, и автора этих стихов, студента Полежаева, разжаловали в солдаты и сослали на Кавказ. Ректор университета Прокопович-Антонский был отставлен, а попечителем московского учебного округа, вместо «статского» генерала, был назначен военный — Писарев. Для студентов была введена обязательная форма с красным воротником и металлическими пуговицами. Для семьи Пироговых, считавшей каждую копейку, это был серьезный финансовый вопрос. И вот сестры Николая умудрились из фрака покойного отца сшить для брата мундирную куртку. Ни по цвету, ни по покрою куртка не отвечала новой форме, но на нет и суда нет, и Николай щеголял в ней до окончания курса.
Более строгие порядки с непривычки сильно стесняли университетскую молодежь. Собственно для Пирогова они смягчались пробудившимся в нем на 17-м году жизни нежным чувством — влюбленностью. У крестного отца его, Семена Андреевича Латугина, была дочка, очень миловидная, голубоглазая блондинка. Годами она была несколько старше Пирогова и представлялась ему каким-то неземным созданьем. Сторговав себе на толкучке овидиеву «Ars amandi» («Искусство любви»), он в свободное время перечитывал наиболее чувствительные стихи, вечера же проводил довольно часто у Латугиных, играя с барышнями в мельники, в фанты, или заслушиваясь пением хозяйской дочери у которой был очень приятный голос.
Так между делом и бездельем незаметно подошел и последний год пребывания его в университете.
Глава девятая.
«Vous allez à la gloire!»
Однажды профессор Мудров, к немалому недоумению своих молодых слушателей, вместо обычной лекции, стал рассказывать об удовольствии и пользе путешествия по чужим краям, о восхождении на альпийские ледники, о пуховиках, которыми немцы покрываются вместо одеяла, и т. п.
— Что это на него за стих нашел? — шептались между собой студенты. — Не пошлют же нас путешествовать?
Догадка их была не так далека от истины.
— Вы удивляетесь, господа, для чего я говорю вам обо всём об этом? — сказал Мудров в заключение. — А вот для чего: особым доверием нового министра народного просвещения, князя Ливена, в академии наук пользуется бывший профессор дерптского университета, а ныне академик, Перрот. По поручению министра, он составил проект о том, как на будущее время замещать профессорские кафедры во всех наших университетах свежими силами. Правильно или нет, — не нам судить, — лучшим университетом считается у господ академиков дерптский. Так вот по проекту г-на Перрота, из четырех коренных русских университетов двадцать наиболее способных студентов предполагается послать на казенный счет к немцам — сперва в Дерпт года на два, а потом и заграницу, для окончательной подготовки к профессорской деятельности.
Можно себе представить, как такая заманчивая перспектива взволновала слушателей.
— Да ведь сколько же человек будет послано от каждого университета? — спрашивали они. – Четырежды пять — двадцать; стало быть, не более пяти?
— Нашему университету, сколько я слышал, предоставят семь вакансий. Но и в этом случае конкуренция между вами, господа, будет большая. Поэтому желающим из вас воспользоваться этими вакансиями мой совет — подтянуться.
«Я-то подтянусь! — решил про себя Пирогов. — Лишь бы послали! По крайней мере не буду уже сидеть на шее у маменьки, у сестер».
После одной репетиции на ту же тему заговорил с ним и его покровитель Мухин.
— Ну, Пирогов, слышал ты, что нескольких из вашей братии командируют к немцам доучиваться?
— Слышал, Ефрем Осипыч.
— И сам охотно поехал бы тоже?
— С восторгом. Но желающих так много…
— У тебя есть шансы. А какую ты взял бы себе специальность?
— Разумеется, медицину.
— Нет, так нельзя; надо выбрать определенно какую-нибудь медицинскую науку.
«Сам он физиолог, — подумал Пирогов: — вернее всего взять физиологию».
— Физиологию, Ефрем Осипыч, — отвечал он вслух.
— Да ты это, мой милый, не ради меня ли? — догадался Мухин. — Другие науки тебя разве не интересуют?
— Правду сказать, меня все очень интересует: и химия, и фармакология, и анатомия, и хирургия.
— Вот видишь ли! Семь раз отмерь и один отрежь. До завтрого на досуге обдумаешь. Тогда тебя и запишем в число кандидатов.
На другой день Пирогов зашел в правление университета и объявил бывшему там Мухину, что выбор свой остановил на хирургии.
— Вот это так; значит, обдумал, — сказал Мухин. — Вопрос теперь еще только в том, достаточно ли крепки у тебя легкие и дыхательное горло, чтобы читать с кафедры в большой аудитории? Вот книга; прочитай-ка.
Пирогов взял поданную ему книгу (физиологию Ленгоссека) и прочитал длиннейший период так громко и внятно, что Мухин остался вполне доволен.
— Ну, дыхательное горло у тебя в порядке. Занесите-ка молодого человека в список кандидатов, — отнесся он к секретарю правления.
Ни матери, ни сестрам Пирогов еще не заикнулся о своих будущих планах. Теперь эти планы осуществлялись, и с лекций домой он не поплелся уже пешком, а кликнул извозчика, да обещал прибавить еще пятак, чтобы вез поскорее.
Своих он застал в переговорах с портным.
— Да вот он и сам, — сказала мать. — Я, Николай, хочу отдать починить твою старую шинель…
— Подарите ее, маменька, первому нищему, — весело прервал ее сын.
— Но она еще годилась бы…
— Мне она уже не годится! Готовьте мне все новое с иголочки!
— Что это значит, Николай?
— Это значит, что меня посылают от университета путешествовать.
— Вот счастье-то! И на казенный счет?
— На казенный. Знай наших!
— Путешествовать? — вмешался тут в разговор и портной. — Знаю, знаю, слыхал тоже: вы, сударь, поедете открывать неизвестные острова и земли?
Пирогов расхохотался.
— Напротив, весьма даже известные. Сперва я еду в Дерпт, а потом за границу закончить мое научное образование и сделаться профессором.
— Профессором? Господи, помилуй! Господи, помилуй! — прошептала про себя мать, которая все еще не могла придти в себя от неожиданности.
Дочери её, не менее пораженные, были скорее опечалены, чем обрадованы.
— Так ты уедешь от нас на очень долго?
— Да, лет на пять, а то и больше.
— Но это ужасно! Столько лет не видеться!
— Ну, из Дерпта на каникулы как-нибудь урвусь. Зато вам, мои дорогия, я отныне не буду уже в тягость.
— Ты нам в тягость? Да ты наша радость и утешение! — сказала мать и, притянув к себе любимца, перекрестила его и поцеловала. — Благослови тебя Бог! Когда же ты едешь? Не сейчас ведь?
— Нет, весною; сначала я должен еще сдать лекарский экзамен.
— И то спасибо: хоть маленькая отсрочка.
К лекарскому экзамену Пирогов готовился с особенным усердием. Но так как назначение его в профессорский институт, в числе 7-ми студентов от московского университета, было предрешено, то на экзамен он отправился без всякого страха и, действительно, ни на один вопрос не затруднился ответом. Во второй половине мая месяца все семеро были приглашены в правление университета и получили здесь от казначея прогонные деньги, а от экзекутора — мундиры темно-синего сукна с шитыми золотом воротником и обшлагами, шляпу и шпагу.
В этом же щегольском наряде Пирогов отправился на прощальный поклон к Латугиным. Барышня встретила его со своей неизменно милой улыбкой.
— Какой вы, Николай Иваныч, нарядный!
— Я пришел к вам проститься перед отъездом, — проговорил он невольно дрогнувшим голосом.
— Да, ведь вас усылают на целые годы? И вы нас, конечно, скоро забудете.
— Вас я никогда не забуду, никогда! — уверял Пирогов. — Ваш дивный голос будет постоянно звучать в моих ушах.
— Так не пропеть ли вам на прощанье ваш любимый романс?
И, сев за фортепьяно, она запела:
«Vous allez а la gloire;
Mon triste coeur suivra vos pas.
Allez, volez au temple de memoire;
Suivez l’honneur, mais ne m’oubliez pas»…
(«Вы идете к славе; мое опечаленное сердце устремится по вашим стопам. Ступайте, летите к храму бессмертия; следуйте вашей чести, но меня не забывайте»).
Была ли молоденькая певица действительно огорчена, но голос её, казалось Пирогову, никогда еще не звучал так грустно и нежно.
— «Vous allez а la gloire»… — шептал он про себя. – если б то вправду было так!..
Когда он затем стал прощаться, то не удержался приложиться губами к протянутой ему руке, на которую из его глаз капнула при этом горячая слеза.
О том, сколько было пролито слез при прощании его с матерью и сестрами, нечего и говорить.
В Петербург семерых кандидатов профессорского института повез, в качестве конвоира, адъюнкт-профессор математики Щепкин. Болотистая дорога между двумя столицами была в то время вымощена бревнами, а потому этот многодневный переезд на «перекладной» телеге, подскакивавшей по бревнам, как по клавишам, был своего рода пыткой. Путники были рады-радехоньки, когда, прибыв на место, могли наконец отлежать свои отбитые бока на мягких матрацах гостиницы «Демут».
На другое утро Щепкин представил их директору департамента народного просвещения Языкову, а еще через несколько дней и министру князю Ливену.
— Теперь, господа, вам остается еще последняя формальность — экзамен в академии наук — сказал Щепкин.
Экзамен этот, однако, на деле оказался не пустою формальностью. Экзаменаторами были академики, а для медиков еще два профессора медико-хирургической академии.
У Пирогова и четырех его товарищей {Товарищи эти были: Шиховский — по ботанике, Сокольский — по терапии, Корнух-Троцкий — по акушерству и Шуманский — по истории.} экзамен сошел гладко; двое же были признаны «ненадежными», и выданные им вперед в Москве прогонные деньги, 542 р. министерство предписало взыскать с членов совета московского университета, под ответственностью которых был сделан выбор кандидатов в профессорский институт.
Любопытно, что в числе этих двух ненадежных был и Петр Григорьевич Редкин, впоследствии замечательный юрист, профессор энциклопедии права сперва при московском, потом при петербургском университете, ректор этого последнего университета, а наконец и член государственного совета. В чем обнаружилась его «ненадежность» — мы сказать не умеем. Но неудачный экзамен не обескуражил Редкина: он все-таки отправился в Дерпт, хоть и не на казенный, а на собственный счет.
С Редкиным же и товарищем-медиком Сокольским Пирогов двинулся в путь «на долгих» к той славе, которую в своей прощальной песне предрекала ему Латугина.
Первый этап — «школьные годы» — остался у него уже позади; второй этап — самостоятельных «академических» занятий до профессуры по выданной им специальности — лежал еще впереди в туманной дали.
Часть вторая.
Академические годы.
Глава первая.
На перепутье.
Майскою лунною ночью 1828 года все обыватели богоспасаемого эстонско-немецкого городка Нарвы почивали мирным сном. Но перед местным знаменитым водопадом, мягко озаренным голубоватым светом луны, стояли, любуясь, трое юношей, чистокровных россиян. Не далее, как две недели назад, они сдали в московском университете свой выпускной экзамен: двое, Сокольский и Пирогов, по медицинскому факультету, а третий, Редкин, по юридическому. В Нарву же они прибыли всего с час назад, «на долгих» из Петербурга по пути в Дерпт, чтобы сначала там, а затем и заграницей подготовиться к профессуре. Сокольскому и Редкину минуло уже 20 лет, Пирогову только 17, а потому свое восхищение величественным зрелищем шумно-падающих вод он выражал менее сдержанно, чем его старшие товарищи.
— Ну что, Сокольский теперь не раскаиваешься?! — говорил он. — Видел ли ты что-либо грандиознее?
— В таком роде — нет, — должен был признать Сокольский. — Но и у нас в Москве есть прекрасные виды, хоть бы с Воробьевых гор, откуда сам Наполеон загляделся на нее, златоглавую.
— Перестань, пожалуйста! — вмешался тут Редкин. — Нашу Москву я люблю не менее тебя: как город, она несравненна. Но здесь не дело рук человеческих, а сама природа…
— Вот именно! — подхватил с живостью Пирогов. — Ведь завтра мы двинемся дальше с раннего утра. Завались мы спать сейчас после чаю, — о всей этой красоте мы так и понятия бы не имели.
— Зато выспались бы досыта. У меня о сю пору еще от тряски на телеге поясницу ломит.
— «Поясницу ломит!» — передразнил Редкин. — Точно ты, брат, столетний старик. А я, будь только время, прогулялся бы еще вокруг всего города: здесь сохранились ведь еще крепостные валы времен Петра Великого.
— А не странно ли, право, господа, — заметил Пирогов, — что, как мы вот теперь, и Петр больше ста лет назад любовался этим самым водопадом. Забыл я вот только, в каком году он был здесь…
— В первый раз прибыл он сюда осенью 1701 года, — сказал Редкин. — Но тогда он вряд ли подходил к водопаду так близко, как мы: город был еще во власти шведов. Из поденного журнала {Полное заглавие этой замечательной книги такое: «Журнал или поденная записка, блаженные и вечнодостойные памяти Государя Императора Петра Великого, с 1698 года, даже до заключения нейштатского мира. Напечатан с обретающихся в кабинетной архиве списков, правленных Собственною рукою Его Императорского Величества. Спб. 1770 года».} его видно, что он основался на острове реки Наровы и ездил на взморье, чтобы разведать, нельзя ли напасть на шведов с моря.
— Ты, Редкин, читал его собственный журнал?
— Где ты достал его?
— А у нас же в университетской библиотеке.
— Как жаль, что я раньше не знал об этом!. И что же, Петр напал на них с моря?
— Нет, это оказалось невозможным, и он приступил к осаде города. Но шведы, более искусные в военном деле, нанесли ему поражение и заставили его даже снять осаду.
— Однако потом, сколько помнится, Петр все-таки взял город штурмом?
— Да, уже спустя три года, когда войско наше подтянулось. Штурм в журнале описан такими живыми красками, что вчуже дрожь пробирает. Комендант Горн замкнулся в крепости Ивангороде и не хотел слышать о сдаче. Тогда Петр согласился выпустить храбрый гарнизон с ружьями, но без знамен и барабанов…
— Все это в своем роде очень назидательно, — прервал рассказчика Сокольский, зевая во весь рот, — а сделать визит полковнику Храповицкому все же не мешает.
— Поспеем! Я предложил бы, напротив, сесть в лодку и, по примеру Петра, выехать тоже на взморье.
Пирогов с одушевлением поддержал предложение Редкина, и Сокольский нехотя должен был уступить.
Лодка нашлась у ближнего перевоза. Растолкав спавшего на дне её лодочника-эстонца, молодые люди взялись за весла и пустились вниз по реке.
Вот и взморье. Что за тишь и гладь! Ни волн, ни мелкой даже ряби; но вся необозримая поверхность воды равномерно колышется, то вздымаясь, то опускаясь, точно грудь живого существа, которое погружено в глубокий сон, но и во время сна неслышно дышит. Полная луна глядится в этом подвижном зеркале, устилая его далеко-далеко ослепительной серебряной дорожкой; да около самой лодки сыплются и сверкают серебряные же брызги.
Всех троих москвичей охватило грустно-мечтательное настроение; все трое мысленно перенеслись к своим в Москву. Первым прервал молчание Пирогов, затянув про себя вполголоса:
— «Vous allez à la gloire»…
— Ты что это, брат, мурлычишь? — спросил Редкин, очнувшись от своего раздумья.
— Это романс такой…
— Но французский; почему не русский?
— Потому что… перед отъездом из Москвы я заходил проститься к моему крестному отцу, Латугину, и дочка его пела мне этот романс…
— Тогда понятно! — усмехнулся Сокольский. — А собой она, конечно, красоты неописанной?
— Не то чтобы, а все-таки…
— А все-таки неотразима, и сердце твое не устояло?
— Полно, Сокольский! — перебил насмешника Редкин. — У каждого из нас есть в глубине сердца заветный уголок, куда непрошенно никого не впускают. Будем наслаждаться настоящим; почем знать скоро ли еще выдадутся у нас такие светлые минуты? Мы на перепутье: в прошлом все тяжелое, печальное как-то забылось; помнится одно приятное, хорошее.
Ни Сокольский, ни Пирогов уже не возражали. Все трое предались опять своим мечтаниям о беззаботных, безвозвратных школьных годах и о предстоящей каждому из них сознательной академической работе.
Между тем короткая летняя ночь приходила уже к концу; луна побледнела, восток заалел.
— Заря, господа! — встрепенулся Редкин. — Э! Да ты, Пирогов, поди, носом окуней уже ловишь?
— Нет, я только так… как будто задремал…
— Дремать нам теперь, дружище, не приходится: загорается заря новой для нас жизни…
— Только холодна она, чёрт побери, эта новая жизнь, бррр! — заметил Сокольский, поводя плечами.
— На заре, дружище, всегда свежее; но такая свежесть бодрит.
— Как кого! У меня теперь одно на уме — накрыться ватным одеялом и свернуться калачиком. Эй, ты, чухна! поворачивай назад!
Глава вторая.
Дерптские профессора: Перевозчиков и Мойер. — Г-жа Протасова.
В Дерпте наши три путника остановились в заезжем доме Фрея, куда вслед за ними прибыли и трое остальных кандидатов профессорского института от московского университета: Корнух-Троцкий, Шиховский и Шуманский.
Профессор русского языка, Василий Михайлович Перевозчиков (единственный, вообще, при дерптском университете профессор из русских) был назначен наблюдателем за русскими студентами и, как оказалось, приискал уже для вновь прибывших две квартиры: одну — вблизи университета, другую — в тихом, захолустном переулке. В последней поселились Пирогов и столь же скромные в своих житейских требованиях Корнух-Троцкий и Шиховский. Под свежим еще впечатлением поэтической ночи у Нарвского водопада и на взморье Пирогов не замедлил излить свое восхищение в двух письмах в Москву — к матери и сестрам и к своему «предмету», Латугиной. Это была прощальная дань юношеским грезам перед тем, как окунуться с головою в трезвый мир медицины.
Профессор Перевозчиков с первой же встречи принял относительно порученных ему молодых людей такой сухой начальнический тон, что нимало не расположил их в свою пользу. — В воскресенье, господа, после церковной службы пожалуйте ко мне, — приказал он им: — я поведу вас к другим профессорам.
И вот в ближайшее воскресенье, после обедни, когда все улицы маленького университетского городка пестрели оживленными группами разряженных горожан и студентов-немцев в цветных корпоративных шапочках, — из улицы в улицу, от профессора к профессору, чинно двигалась компания молодых москвичей в казенных мундирах треуголках, при шпагах, предшествуемая их наблюдателем. По временам до слуха их долетали и насмешки:
— Вон русских медведей поводырь ведет на показ.
Профессора- немцы обращались к представляемым им кто по-немецки, кто по-французски.
Всех симпатичнее показался Пирогову профессор хирургии Мойер, живший как оказалось, в одном с ним переулке. Рослый, плечистый, с крупными чертами лица, с густою с проседью, гривой и с прямодушными умными голубыми глазами под нависшими бровями, — Мойер одним видом своим внушал уже безотчетное доверие. Счастливой внешности отвечало и все его обращение. Заметив, что Пирогову недостает немецких слов, он заговорил с ним на его родном языке.
— Вы, г-н профессор, верно, жили долго среди (русских? — не утерпел тут спросить Пирогов.
— Потому что говорю порядочно по-русски? — улыбнулся в ответ Мойер. — В доме у себя я целый день слышу русскую речь: покойная жена моя приходилась ведь племянницей Василью Андреевичу Жуковскому…
— Как! нашему известному поэту?
— Да. Её мать, Катерина Афанасьевна Протасова, живет здесь в моем доме и ведет у меня хозяйство; так вот она говорит всегда по-русски со своей внучкой, моей дочкой. Кроме того, во время вакаций я езжу обыкновенно в их орловское имение присмотреть за полевыми работами; там я имею случай упражняться в русской речи и с простым народом. А скажите-ка теперь, где вы-то устроились тут в Дерпте?
— Да на вашей же улице, г-н профессор, наискосок отсюда.
— Не в доме ли Реберга?
— Именно.
— Вот и чудесно. Вам, значит, ничего не стоит заходить к нам запросто, когда соскучитесь…
— Если не стесню вас, г-н профессор…
— Называйте меня просто Иваном Филипповичем. Катерина Афанасьевна особенно будет рада поболтать с земляком.
Пирогов не преминул воспользоваться любезным приглашением и в скором времени сделался в доме Мойера своим человеком. Так постепенно он узнал и историю жизни Мойера.
Родился Мойер в 1786 году в семье ревельского пастора, голландского уроженца. По желанию отца, он шел в дерптском университете сперва также по богословскому факультету, но природная склонность к медицине заставила его перейти на медицинский. Окончив курс, он слушал лекции еще в двух заграничных университетах: гёттингенском и павианском. Занимаясь в Павии у знаменитого хирурга Скарны, он сдал там экзамен на доктора хирургии; после чего, ради практики, работал еще в госпиталях миланских и венских; в последних — под руководством известного Руста. Когда возгорелась Отечественная война 1812 года, он поспешил назад в Россию и в военных госпиталях своим искусством сохранил жизнь не одной сотне раненых. С прекращением военных действий он возвратился в Дерпт, где в 1814 г. занял кафедру хирургии. Три года спустя он женился на племяннице Жуковского, Марье Андреевне Протасовой. Но уже через шесть лет он овдовел. С этих пор он всецело отдался своей профессорской деятельности и только по вечерам отводил душу игрой на фортепиано.
И что это была за игра! По часам Пирогов просиживал, мечтая, в укромной мойеровской гостиной, слушая чудные звуки Бетховенских сонат.
Уложив спать свою маленькую внучку Катю, к нашему мечтателю подсаживалась со своим вышиваньем Катерина Афанасьевна.
— Иван Филиппыч, кажется, и не подозревает, что мы его слушаем, — заметил ей раз шепотом Пирогов.
— Да, он весь погружен теперь в воспоминания… — так же тихо отозвалась старушка.
— О покойной жене?
— Да… Сам доктор, он все-таки не мог спасти ее: против скоротечной чахотки медицина еще бессильна. Бедная моя Маша! Ей не было ведь еще и 30-ти лет…
— Но отчего у неё сделалась чахотка?
— Видно, было природное уже предрасположение; а потом…
Протасова глубоко вздохнула и замолкла.
— А потом? — повторил за нею Пирогов.
Очень уж, должно быть, наболело у старушки материнское сердце; явилась неодолимая потребность высказаться.
— Вы, Николай Иваныч, лично не знаете моего брата-поэта?
— Лично — нет; но я всегда восхищался его чудными стихами и еще в детстве заучивал наизусть его баллады. Душа у него, должно быть, необыкновенно нежная, чувствительная…
— Да, души более мягкой, кристально-светлой мне во всю жизнь еще не встречалось. Он — романтик чистейшей воды.
— Но во всех его стихах слышится какая-то затаенная грусть, точно по утерянном идеале.
— Так оно и есть. Он грустит по своей покойной племяннице Маше…
— Вашей дочери, жене Ивана Филиппыча?
— Чшшш! Не так громко. Перед Иваном Филиппычем я до сих пор не смею произнести её имя.
— Но брат ваш мог бы уж кажется, утешиться?
— Так вам, Николай Иваныч, стало быть, еще не знакома идеальная любовь! Брат ведь помышлял сперва сам жениться на бедной Маше…
— На родной племяннице? Православным это разве не запрещено?
— То-то, что запрещено. Василью Андреевичу, правда, удалось даже заручиться согласием духовенства; но я, по моим религиозным убеждениям, была решительно против брака между такими близкими родственниками.
— Хотя бы разрушили этим счастье обоих? Так вот отчего ваша дочь и впала в чахотку!
Протасова испуганно замахала руками.
— Что вы, что вы! пожалуйста, не говорите этого! Не думайте также, что я насильно выдала Машу за Ивана Филиппыча; нет, сам брат мой убедил ее к этому браку, потому что хотел видеть ее за хорошим человеком.
«Бедные, бедные!» — мысленно пожалел Пирогов обоих обойденных, но вслух не сказал уже ни слова.
Посвящая его таким образом в интимную жизнь дорогих ей людей, Протасова в то же время расспрашивала его участливо и о его собственных родных, входила во все его личные интересы. Благодаря её покровительству, он избавился и от незаслуженных преследований профессора-надзирателя Перевозчикова. Было дело так:
Возвращаясь однажды домой с лекции, Пирогов был до того занят своими мыслями, что вошел в дом в шапке, не заметив и присутствующих в проходной комнате. Только обернувшись на пороге своей спальни, он увидел у окошка своих двух товарищей-сожителей и беседующего с ними Перевозчикова.
«Потом поздороваюсь», — решил он, вымыл руки, переоделся и тогда уже возвратился к беседующим. Поклонившись профессору, он вмешался в общий разговор. Перевозчиков, не сделав ему никакого замечания, вскоре удалился. Тем, казалось, все должно было и кончиться. Но не тут-то было.
Подошли рождественские вакации. Вдруг Пирогова, требуют в кабинет Перевозчикова.
«Что ему от меня нужно?» — недоумевал Пирогов.
Не отвечая на его поклон, Перевозчиков со сжатыми губами пристально взглянул на вошедшего и затем промолвил:
— Скажите-ка, Пирогов, какую аттестацию дать мне высшему начальству о вашем поведении?
Пирогов выпучил на него глаза.
— Я вас не понимаю, Василий Михайлыч…
— Я ответствен за вас перед г-м министром, — продолжал тот. — Так что же прикажете мне донести его светлости?
— Вам лучше знать. Что же я-то сам могу сказать?
— Но после тех знаков явного неуважения к начальствующим лицам, которые я имел случай заметить, могу ли я отозваться о вас с хорошей стороны?
— Простите, Василий Михайлыч, но я не понимаю, о каких знаках неуважения вы говорите.
— А по-вашему, вы оказываете должное уважение начальству, когда, заставая его у себя на дому, не снимаете перед ним даже шапки?
— Так вот вы о чем вспомнили! Да неужто вы думаете, что я сделал это тогда умышленно?
— Нимало не сомневаюсь. И это вам, молодой человек, так не сойдет! Сегодня же пишу в Петербург.
Кровь бросилась в голову Пирогова, и он не сдержал своей запальчивости:
— Очернить меня перед министром вы, г-н профессор, можете, конечно, как вам угодно; но одно я, кажется, в нраве от вас требовать: чтобы аттестацию обо мне вы дали не голословно, а с указанием самого факта моего неуважения, будто бы, к вам.
Сказал, отдал короткий поклон и был таков. Вечером он зашел к Мойерам. Протасова тотчас обратила внимание на расстроенный вид юноши.
— Что это с вами, голубчик Николай Иваныч? Не было ли у вас какой-нибудь неприятности?
— Да, нелепейшее столкновение с нашим надзирателем…
— С Перевозчиковым? Как же это могло случиться? Вы, кажется, такой хладнокровный. Расскажите, облегчите душу.
Пирогов рассказал. Протасова не на шутку возмутилась.
— Это ни на что не похоже! Завтра же переговорю с Катериной Матвеевной (Катерина Матвеевна, урожденная Княжевич, была жена Перевозчикова).
— Оставьте уж их! — сказал Пирогов. — Господь с ними! Ведь рапорт обо мне в Петербург нынче уже послан. Что будет, то будет.
— Нет, дорогой мой, так я этого не оставлю. И червяк корчится, когда на него наступят; а вы слава Богу, не червяк.
И точно, на другой же день она отправилась к г-же Перевозчиковой. Что было между двумя дамами — осталось неизвестным. Последствием же их свидания было то, что прежние приятельницы совершенно раззнакомились.
Добрейшая Катерина Афанасьевна не ограничилась, однако, этим, бесполезным в сущности, вмешательством. Перед своим зятем она настояла на том, чтобы он со своей стороны защитил Пирогова от наветов надзирателя. Мойер, и без того принимавший теплое участие в многообещающем юноше, постарался выгородить без вины виноватого перед советом профессоров. В результате в ответ на донесение Перевозчикова хотя и пришло из Петербурга предписание сделать Пирогову строгое внушение, но на деле такого внушения не последовало.
Что же до самого Перевозчикова, то своею вечною бестактностью и мелочною придирчивостью он восстановил против себя не только порученных ему русских, но и слушателей-немцев. На одной лекции те его «выбарабанили» (ausgetrommelt), и он был вынужден навсегда покинуть Дерпт.
Глава третья.
Русские студенты Иноземцев и Даль. — Немецкие бурши и Булгарин.
Дом Реберга где поселился Пирогов с двумя другими москвичами, находился довольно далеко от университета; между тем в университетской клинике будущему хирургу приходилось бывать ежедневно в разное время дня. Поэтому он не мог дождаться, когда-то освободится для него место в студенческом общежитии. Своими житейскими заботами он делился обыкновенно со старушкой Протасовой, принимавшей в нем материнское участие.
— С будущего семестра мне обещали наконец помещение в клинике, — говорил он ей; — да не знаю вот, как быть с Ребергом: срок найма квартиры у него кончается 23 апреля, а дальше он отдает квартиру только на год…
— Да, здесь в остзейских городах квартиры нанимаются с Юрьева дня по Юрьев день — оплатила Протасова. — Но знаете что, Николай Иваныч: переезжайте-ка покамест к нам.
— Вы очень добры Катерина Афанасьевна; но не стесню ли я вас?
— Ничуть: у нас всегда одна лишняя комната для гостей.
И в Юрьев день Пирогов распростился со своими двумя сожителями, чтобы перебраться через улицу к Мойерам. Кстати упомянем здесь, что оба — Шиховский и Корнух-Троцкий — сделались впоследствии профессорами ботаники: первый — в петербургском, а второй — в казанском университете.
С нового семестра в клинике, действительно, очистилась комната, которую предоставили Пирогову вместе с прибывшим из Харькова студентом Иноземцевым. Протасова была видимо опечалена.
— Вы там совсем нас забудете! — говорила она. — Веселая компания буршей собьет вас с пути…
— Нет, Катерина Афанасьевна, — отвечал Пирогов: — немецкие студенты с нами не сходятся: мы, кандидаты профессорского института, принялись за работу с первого же семестра, и они прозвали нас в насмешку «Professur-Embrionen» (зародыши профессуры).
— Да, на первом курсе из них редко кто работает; зато после, отрезвившись, они трудятся вдвое. А что, этот Иноземцев не вертопрах?
— Ай, нет: ему уже лет 28, а то и больше.
В Харькове он ассистировал при операциях профессора Еллинского и сам произвел уже при нем одну ампутацию. Иван Филиппыч им тоже очень доволен.
— Коли так, то я за вас спокойна, — вздохнула Катерина Афанасьевна. — Переезжайте с Богом.
И Пирогов переехал. Четыре года слишком — до самого отъезда своего из Дерпта за границу, прожил он с Иноземцевым в одни стенах. Тем не менее настоящей дружбы между ними не установилось. Объяснялось это не столько даже большою разностью лет, сколько противоположными натурами.
Пирогов, собой довольно невзрачный и по темпераменту лимфатик, никогда не пытался нравиться дамам и был глубоко равнодушен к пустым светским развлечениям. Высшим наслаждением его была хорошая книга да удачная научная демонстрация.
Иноземцев, напротив, был очень красив, одевался всегда франтовато и был милым товарищем, занимательным собеседником. Принимаемый везде очень радушно, он целые вечера проводил то с приятелями, то в знакомых семейных домах. Раз или два раза в неделю товарищи собирались у самого Иноземцева на партию в вист. Эти собрания затягивались за полночь и для Пирогова были настоящей пыткой: сам не играя в карты, не куря табаку, он задыхался от табачного дыма картежников и не мог ни читать, ни заснуть от их громких возгласов и споров.
Ближе, чем с Иноземцевым, он сошелся с другим медиком — Далем, обессмертившим себя впоследствии своим «Толковым словарем живого великорусского языка». Завязалось их знакомство самым оригинальным образом еще в то время, когда Пирогов жил в доме Реберга с двумя товарищами. Раз под вечер из общей комнаты, выходившей окнами на улицу, доносится русская песня: «Здравствуй, милая, хорошая моя!», наигрываемая очень искусно на каком-то необыкновенном инструменте. Серенаду, что ли, дают им? Один за другим они выглянули из своих дверей. И что же? С улицы в открытое окно просунулась голова носатого студента с губным органчиком во рту. Появление хозяев нимало не смутило музыканта: как ни в чем не бывало, он продолжал выводить трель за трелью. Как было тут не пригласить его к себе, не угостить пивом? С этого дня он бывал у них довольно часто.
Владимир Иванович Даль был старше Пирогова на целых 9 лет. Оказалось, что он раньше служил уже во флоте, дослужился до чина лейтенанта, но не мог привыкнуть к морской качке. Вдобавок он навлек на себя еще неудовольствие начальства за стихотворный памфлет на адмирала Грейга. Морскую службу пришлось бросить. Но даровитые натуры не пропадают. В четыре года Даль подготовился к лекарскому экзамену и сделался военным врачом. Но военный врач должен быть, прежде всего, хорошим оператором. И Даль обменял свой военный мундир на студенческий и занялся специально хирургией. Между делом он писал свои украинские сказки, которые потом печатал под псевдонимом «Казака Луганского». Вышел бы из него, вероятно, и незаурядный актер; самые смешные сцены он рассказывал с серьезнейшим видом; изумительно подражал голосом, мимикой, походкой разным лицам; до полной иллюзии передавал жужжание комара или мухи и т. д.
Совместные занятия в клинике особенно сблизили двух начинающих хирургов; поэтому для Пирогова было большой потерей, когда Даль на другой же год уехал из Дерпта, чтобы, в качестве военного врача-хирурга, отправиться на турецкую войну. Встретились они вновь с Пироговым уже в 1841 году в Петербурге, в обществе дерптских приятелей.
Студентов-немцев Пирогов, как коренной русак, чуждался целые годы. Только к концу своего пребывания в Дерпте, принявшись за докторскую диссертацию, он сблизился с некоторыми из выпускных буршей и, проводя с ними вечера за кружкою пива, внимательнее вгляделся в их корпорационный быт.
В Дерпте, как в университетском городке, первым лицом считался ректор университета. За ним наибольшим почетом пользовались профессора. В обществе же как дворян-помещиков, так и городских мещан, «бюргеров», главную роль играли студенты-корпоранты. Всего круче приходилось от них, конечно, «бюргерам», или, в студенческом просторечии, «квотам». В мещанском клубе, особенно во время маскарадов, молодые бурши выкидывали всевозможные потешные шутки, оканчивавшиеся нередко скандалами. Городская полиция всякий раз благоразумно испарялась; а жандармский полковник, дувшийся со стариками-бюргерами в карты, ничего как бы не видел и не слышал.
При случае, впрочем, корпоранты не щадили и свою родовую знать, если та, в своей надменности чересчур «задирала нос». Так, в городской хронике Дерпта надолго сохранился следующий анекдот:
Конец зимнего сезона знаменовался большим балом в дворянском клубе. Съезжались туда дворяне-помещики чуть ли не со всей Лифляндии, но первыми танцорами на балу были, по обыкновению, все-таки студенты-бурши. На такой-то бал одна вдова баронесса вывезла раз свою молоденькую дочку, только что окончившую курс в рижском благородном пансионе. Кичась своим старинным родом и миллионным состоянием, мамаша решилась строго выбирать танцоров из студентов для своей дочки. При первых звуках вальса к дочери подлетает лихой бурш.
— Смею просить вас, gnädiges Fräulein?
Барышня вопросительно озирается на мамашу. Но та, вскинув голову, категорически заявляет:
— Моя дочь не танцует с кавалерами, которые ей не представлены!
Дочь, вполовину приподнявшаяся уже было с места, вспыхивает до ушей и снова садится. Студент отвешивает ей преувеличенно-почтительный поклон:
— Простите, что обеспокоил.
Но, возвратившись к своим товарищам, толпящимся у входа, он о чем-то начинает шептаться с ними. Те с усмешкой поглядывают издали на мамашу и дочку.
— Мама! — замечает взволнованно дочка. — Студенты наверно устроят нам еще скандал.
— Будь покойна, — с уверенностью говорит мать: — наше дворянство этого не допустит.
Действительно, на балу весь протест студентов ограничился тем, что ни один из них не подходил уже к барышне-миллионерше; а так как знакомых молодых кавалеров из помещиков у неё было мало, то две кадрили и несколько мелких танцев ей пришлось просидеть, скучая, около гордячки-мамаши.
Дело на этом, однако, не кончилось. Когда на другое утро баронесса с дочкой сели в свою коляску чтобы укатить восвояси, на площади лошади их были вдруг остановлены толпой студентов. Тут и баронесса побледнела, оторопела. Что-то эти сорванцы замышляют?
Из толпы выделяется вчерашний танцор, вскакивает в коляску и насмешливо приподнимает на голове свою цветную корпоративную шапочку:
— Имею честь представиться: такой-то.
Назвался — и сошел опять с противоположной стороны. Следом за ним вскакивает в коляску уже другой студент, точно так же приподнимает шапочку:
— Имею честь представиться: такой-то.
За ним третий, четвертый… А мамаша с дочкой сидят как на иголках в ожидании, когда-то вся корпорация проделает перед ними ту же церемонию. Наконец-то представился и последний.
— Пошел! — командует «сениор» (старшина корпорации) кучеру. — Glückliche Fahrt, meine Damen! (Счастливого пути, сударыни!).
Кучер с остервенением хлещет лошадей; те, берут с места вскачь, вздымая облако пыли, а вдогонку уезжающих провожает еще хор веселых голосов:
— Glückliche Fahrt, meine Damen! Hurra!
Все подобные выходки дерптских буршей объяснялись юношеским задором, молодечеством. Когда же затрагивалась личная честь бурша или честь целой корпорации, то, в силу корпорационных правил (Comment), вопрос разрешался оружием. Обида не только действием, но и словом, если обидчик не приносил добровольного извинения, должна была быть «смыта кровью». Во избежание смертельного исхода поединка, дрались обыкновенно не на пистолетах, а на рапирах (Schläger), при чем наиболее опасные места на теле дуэлянтов прикрывались особыми повязками. Вследствие этого за все пять лет, проведенные Пироговым в Дерпте, была нанесена одна только очень серьезная рана рапирой. Две опасные пистолетные раны со временем также зажили.
Такое строгое отношение немецких студентов к вопросам чести имело одну бесспорно хорошую сторону: они приучались к вежливому обращению со всяким, кого считали равноправным себе и могущим дать «сатисфакцию» (satisfaktionsfahig). К числу последних не принадлежали, однако, обыватели-разночинцы, «филистры», а тем менее «кноты». Филистер или кнот, оскорбивший корпоранта, наказывался «анафемой» (Verschiss) или «кошачьим концертом».
При Пирогове кошачий концерт сочли нужным устроить, между прочим, недоброй памяти писателю Фаддею Булгарину, известному клеветнику и врагу Пушкина. Около Дерпта у Булгарина была мыза Карлово, где он обыкновенно проводил лето. Как-то раз на обеде у соседа-помещика, выпив лишнее, он позволил себе со свойственною ему наглостью поглумиться над дерптскими профессорами и студенческими корпорациями. Среди многочисленных гостей был и один студент. Чтобы не поднимать лишнего шума в чужом доме, студент сам не призвал глумителя к ответу, но, возвратившись вечером в Дерпт, передал слова его товарищам. На другое утро по улицам города потянулась торжественная процессия: шестьсот с лишком студентов, в парадных мундирах с вышитыми золотом по черному бархату воротниками, в высоких ботфортах со шпорами и в корпорационных шапочках на макушке, шли стройными рядами в ногу, как регулярное войско, с тем лишь различием, что, вместо оружия, несли в руках всевозможную кухонную посуду: кто сковороду, кто медный таз, кто чугунный горшок.
— Кошачий концерт! — не без злорадства говорили меж собой горожане, высыпавшие из домов поглазеть на процессию. — Кому-то из наших филистров его преподносят?
Но городских филистров гроза на сей раз миновала; процессия направлялась за город, в Карлово.
Булгарин с женой и теткой сидел еще в столовой за утренним кофеем, когда к ним вбежала служанка:
— Студенты!
— Что за вздор! — проворчал Булгарин. — Откуда у тебя взялись студенты?
— Верно, из Дерпта… На дворе у нас их тысячи…
— Ты, матушка, кажется, не выспалась!
— Сами извольте выглянуть в окошко. Они требуют вас, сударь.
— Меня?
— Да-с, хотят о чем-то переговорить с вами.
В дверях показалось несколько студентов. Обе барыни взвизгнули; Булгарин же, — делать нечего, — приподнялся навстречу непрошенным гостям и, стараясь придать своему голосу твердость, спросил по-немецки, что господам студентам от него угодно.
— Мы — депутаты от всего студенчества, — был ответ. — Вчера за обедом у одного филистра вы осмелились отозваться неуважительно как о нас, так и о наших профессорах. Не угодно ли вам сейчас выйти к нашим товарищам и публично извиниться.
— Я вас не понимаю господа… — забормотал Булгарин. — Это какое-то недоразумение…
— Так что же, выйдете вы или нет?
— Чтобы сделать вам удовольствие, — извольте, выйду.
Взяв со стола свою шапку, он насадил ее ухарски набекрень и, с трубкой в руках, с деланною развязностью вышел на крыльцо. При виде многосотенной толпы студентов, вооруженных музыкальными инструментами для кошачьего концерта, душа у него ушла в пятки. Не желая уронить себя, он без поклона прямо заговорил:
— Meine Herren…
— Mütze herunter (шапку долой)! — прервал его громовой хор голосов.
Куда делся у него вдруг весь напускной гонор!. Сняв шапку и поставив в угол трубку, он с униженными поклонами во все стороны заискивающим голосом стал божиться, что решительно ничего не имеет против уважаемых господ студентов и их досточтимых профессоров; что если с языка у него, может статься, и сорвалось вчера неосторожное слово, то приписать это должно единственно слишком крепкому вину, отуманившему ему голову; а потому, да положат господа студенты на сей первый раз гнев на милость и отпустят ему неумышленную вину.
Такое самоуничижение обезоружило студентов; не пустив в ход своих музыкальных инструментов, они повернулись спиной к обидчику и церемониальным маршем удалились.
Само собою разумеется, что эта история в тот же день разнеслась по всему Дерпту, дошла и до ушей университетского начальства. Можно было ожидать, что Булгарин дела так не оставит и наделает и профессорам и студентам немало хлопот. В виду этого ректор счел нужным вызвать к себе «сениоров» всех корпораций и сделать им отеческое внушение, а главных зачинщиков кошачьего концерта отправить в карцер. Булгарина это удовлетворило.
Глава четвертая.
Вивисекции. — Диссертация на доктора медицины. — Операции над живыми людьми. — Поездка в Москву.
Отправляясь в 1828 году из Москвы в Дерпт, кандидаты профессорского института предполагали пробыть там всего два года, в крайнем случае, — три, а затем двинуться далее — в Берлин, Вену, Париж. Но в Польше, чрез которую лежал их путь заграницу, вспыхнуло между тем восстание, и им пришлось остаться в Дерпте целых пять лет.
Собственно для Пирогова лишние годы прошли далеко не бесплодно: в анатомическом театре и в клинике, он основательно напрактиковался в хирургической анатомии и в операциях над тренами и живыми животными. Трупы в анатомический театр доставлялись на казенный счет из Гиги (зимою — в замороженном виде); живых же собак, телят и баранов Пирогов приобретал, на собственные деньги.
Когда тут факультетскою темой на золотую медаль по хирургии была назначена перевязка артерий, Пирогов специально занялся такой перевязкой над трупами и над живыми животными. Свои наиболее удачные препараты он срисовывал красками в натуральную величину, а к рисункам писал и объяснительный текст. По обычаю того времени, диссертация должна была быть изложена по-латыни. В литературной её отделке на этом языке помогали ему два товарища-филолога (Крюков и Шкляревский). Статья вышла солидная — в 50 писчих листов и была написана не напрасно: автору была присуждена золотая медаль, а рисунки были переданы на вечное хранение в анатомический театр университета.
Изо дня в день производя «вивисекции» (хирургические опыты над живыми существами), Пирогов, по собственному его признанию, постепенно утратил всякую жалость к оперируемым животным.
«Несомненно, вивисекции — важное подспорье науке и оказали и окажут ей неоценимые услуги — говорил он пятьдесят лет спустя.— Но наука не восполняет всецело жизнь человека: проходит юношеский пыл, и мужеская зрелость, наступает другая пора жизни и с нею потребность сосредоточиваться все более и более и углубляться в самого себя. Тогда воспоминание о причиненных другому существу насилии и страданиях начинает щемить невольно сердце… В последние годы я ни за что бы не решился на те жестокие опыты над животными, которые я некогда производил так усердно и так равнодушно».
Увлечение операциями у молодого хирурга дошло наконец до того, что он перестал даже посещать лекции по другим предметам и в один прекрасный день заявил Мойеру, что решил вовсе не сдавать экзамена на доктора.
— Да это абсурд! — вскипел Мойер. — Вы, милый мой, кажется, с ума спятили! Без докторской степени какой же из вас выйдет профессор?
— Я знаю несколько примеров, что от профессоров не требовали докторского диплома, — возразил Пирогов. — А если уж диплом непременно понадобится, то дельному врачу в нем и без экзамена не откажут.
— Ну, это еще большой вопрос. Если же вам и сделали бы такое снисхождение, то злые языки не упустят удобного случая поставить вам это на вид. Имея же в кармане заслуженный на экзамене диплом, вы вперед гарантированы от всяких таких нападок. А кроме того, еще допустят, ли вас без диплома в заграничные клиники, которые посетить вам обязательно, чтобы выработать из себя настоящего клинициста?
— Так-то так… — не мог не согласиться Пирогов. — Да видите ли, Иван Филиппыч… Откровенно говоря, по другим предметам я теперь поотстал, потому что пристрастился к своему предмету и манкирую все лекции, кроме ваших…
— И очень дурно делаете!
— Не спорю; но если для вивисекций и операций мне дорог каждый час, каждая минута… Еще в Москве, бывало, когда я бегал пешком за четыре версты в университет, меня мучило постоянно сознание, что вот сколько времени пропадает у меня совсем бесполезно на беготню…
— Тоже не бесполезно, мой друг: mens sana in corpore sa№ (здоровый ум в здоровом теле); для здоровья движенье на свежем воздухе необходимо. Посмотрите-ка на себя: на что вы теперь похожи? И бледны и худы, точно перенесли только что тяжелую болезнь. А все оттого, что о здоровье своем ничуть не печетесь и целый день возитесь только с трупами да больными животными. Итак, вы будете держать докторский экзамен?
— Видно, придется…
— Конечно. А что до других экзаменаторов, то, в виду вашего усердия по анатомии и хирургии, они, я уверен, не станут слишком притеснять вас. Остается вам только выбрать тему для диссертации. Когда вы работали по перевязке артерий на золотую медаль, не встречались ли вам какие-нибудь неразрешенные еще вопросы?
Пирогов на минутку задумался, потом быстро поднял голову, и глаза его заблистали.
— Одно время меня очень занимал вопрос о перевязке брюшной артерии, — сказал он. — До сих пор ведь в Европе такая перевязка была произведена всего один раз — английским хирургом Астлеем Купером….
— И опыт не удался: больной истек кровью, — подхватил Мойер. — Повторить этот рискованный опыт над живым человеком я сам, пожалуй, не решился бы…
— А я тем менее, — сказал Пирогов. — Меня занимает собственно принципиально вопрос: возможно ли вообще перевязать брюшную аорту без смертельного исхода? Для разрешения этого важного вопроса я считал бы себя в праве отнять жизнь у нескольких животных.
— Тема для диссертации у вас, значит, имеется; она вам, я вижу, по душе. Так, не откладывая в долгий ящик, завтра же принимайтесь за дело. А между делом исподволь готовьтесь и к докторскому экзамену.
Пирогов так и сделал. Немало живых собак, телят и баранов было принесено им в жертву на алтарь науки. Опыты дали определенный ответ на научный вопрос, доказав, что при перевязке брюшной аорты кровообращение в нижних конечностях не сразу прекращается; но что последствием перевязки является вскоре онемение спинного мозга, оканчивающееся смертью.
Еще во время этих опытов Пирогов сдавал один за другим выпускные экзамены, и все они, как предсказал Мойер, сошли благополучно. Сама же диссертация потребовала еще более года времени. Что она действительно имела серьезное научное значение, — видно уже из того, что когда Пирогов потом, будучи в Берлине, показал её тамошнему свежину хирургии Опцу, тот немедля перевел ее с латинского на немецкий язык и напечатал в медицинском журнале.
Экзамены и диссертация не мешали Пирогову производить, под наблюдением Мойера, и разного рода операции над людьми.
За пять лет, проведенные им в Дерпте, Пирогов отлучался оттуда всего два раза: раз — для летней экскурсии с двумя товарищами в Ревель и другой раз — в Москву к матери и сестрам. Первая поездка, по близости расстояния, обошлась сравнительно дешево; вторично при тогдашних путях сообщения, требовала гораздо больших расходов, а потому откладывалась им с году на год. Хотя жалованье, полагавшееся кандидатам профессорского института, было для того времени порядочное — 1200 рублей ассигнациями (342 руб. 85 коп. серебром) в год, но у Пирогова значительная часть этих денег уходила на дорогие книги и атласы и на покупку и содержание животных для вивисекций. А мать и сестры почти в каждом письме напоминали ему о его обещании навестить их, да и самого его давно тянуло к своим. После сдачи докторского экзамена, он наконец решил съездить к ним на рождественские праздники; благо, установился санный путь.
Единственное затруднение заключалось в путевых издержках, на которые денег у него не хватало. Разве разыграть в лотерею все, без чего можно обойтись? Первым выигрышем могли бы быть, например, старые серебряные часы; вторым — старый самоварчик; третьим — «Илиада» Гнедича (подарок старушки Протасовой)… Ну, а дальше разные научные сочинения, отслужившие уже свою службу… Понятно, что взявших билеты надо будет угостить потом хотя бы чаем, ради «благотворительной» цели лотереи, все билеты были разобраны товарищами, и из суммы, очистившейся после угощения, да из имевшихся еще наличных, получился солидный путевой фонд в сто рублей «с хвостиком». Ура!
Чтобы совершить свое путешествие на возможно экономичных началах, Пирогов подрядил за 20 рублей ассигнациями кибитку у подводчика из Московской губернии, возвращавшегося домой порожняком. Но этот экономный способ передвижения «по оказии» едва не стоил ему жизни: два раза он едва-едва не утонул в полыньях.
Через две недели, однако, вдали заблестели перед ним золотые маковки московских сорока-сороков.
На душе нашего докторанта стало вдруг так тепло, светло… Все прошлое восстало в его памяти в самых радужных, красках.
Первая встреча с матерью и сестрами была очень трогательна. В своем приподнятом настроении Пирогов не мог дождаться другого дня, чтобы свидеться и со старыми друзьями после почти пятилетней разлуки.
И свиделся он с ними; но… что значат время и опыт жизни!
«В первые годы моего пребывания в Дерпте, — говорится в его посмертном «Дневнике старого врача», — немцы и все немецкое производило на меня какое-то удручающее впечатление. Мне казались немцы надутыми и натянутыми педантами, свысока относящимися ко всему русскому… Но чем ближе знакомился я с немцами и духом германской науки, тем более учился уважать и ценить их. Я остался русским в душе, сохранив и хорошие и худые свойства моей национальности, но с немцами и с культурным духом немецкой нации остался навсегда связанным узами уважения и благодарности. Неприязненный, нередко высокомерный, иногда презрительный, а иногда завистливый взгляд немца на Россию и русских и пристрастие ко всему своему немецкому мне не сделался приятнее; но я научился смотреть на этот взгляд равнодушнее и, нисколько не оправдывая его в целом, научился принимать к сведению, не сердясь и без всякого раздражения, справедливую сторону этого взгляда».
Москвичи, завязнувшие в своей Белокаменной, показались ему на этот раз невыносимо отсталыми, смешными и пошлыми. Даже прежние профессора его словно полиняли, утратили свой научный ореол; про обыкновенных смертных и говорить нечего. При всей своей сыновней любви к матери, он в юношеском самомнении не утерпел препираться с нею по религиозным вопросам; причем восхвалением лютеранства так разогорчил набожную старушку, что потом, по возвращении в Дерпт, сам раскаялся в своей нетерпимости и письменно просил у неё прощения.
Другою темой для споров его с матерью было крепостное право, тогда уже отмененное в прибалтийском крае (без наделения, однако, крестьян землею). В доме у Пироговых были две крепостные: старая служанка Прасковья Кирилловна, когда-то услаждавшая маленького барина своими сказками, и другая, молодая еще девушка.
— И как у вас, маменька, достает еще духу держать у себя рабынь! — говорил сын. — Ведь они же люди, как и мы с вами, или, по-вашему, нет?
— Само собою, такие же люди перед Богом… — отвечала мать.
— Ну, так и отпустите их с Богом на волю.
— Да что-ж, пожалуй, пускай себе уходят… Да как бы мне за них не быть потом в ответе! Еще под суд угодишь…
— Это за что?
— А за то, что у меня нет никаких документов на крепость. Куда они запропастились, — ума не приложу!
— Так тем более грешно вам, маменька.
— А пустить их без бумаг на все четыре стороны не грешно? Как бездомных бродяг, их в тюрьму засадят. У меня же их никто не трогает; пускай живут себе на здоровье.
Жилось у неё «рабыням», действительно, хоть и не Бог-весть как красно, но и не дурно. Вскоре, впрочем, молодая вышла замуж и без документов. Старухе же Кирилловне сам Пирогов впоследствии выправил вольную.
Как острым операционным ножом, наш молодой хирург расчленял теперь и душевные качества своих ближних, их умственное развитие, житейские воззрения. Устоит ли против такого критического анализа былой «предмет» его, дочка его крестного отца Латугина? Нет! лучше не делать такой попытки. И он ни разу так и не заглянул в столь дорогой ему прежде дом у Ильи Пророка на Жеманной.
Глава пятая.
«Не хочу жениться, хочу учиться «. — Через Копенгаген на Берлин.
После успешной защиты докторской диссертации Пирогову оставалось ожидать официального разрешения из Петербурга на ученую поездку за границу. Это-то время он считает самым приятным во всей своей жизни. Да и понятно: по чистой совести получив докторский диплом, он заслужил себе право закончить образование у первых европейских специалистов по излюбленной им науке. И он с особенным наслаждением отдался временному ничегонеделанию.
С начала весны Мойеры передались на дачу; у них и гостил теперь Пирогов, которого ничего уже не удерживало в городе.
Живя в Дерпте в течение пяти лет, он почти никогда не участвовал в студенческих пирушках, был равнодушен и к прекрасному полу. Теперь он вдруг словно прозрел, и впервые заметил в доме Мойеров двух молоденьких (лет 16—17) барышень.
Одна из них, быстроглазая смуглянка-брюнетка, Лаврова, была приглашена Протасовой в качестве компаньонки, чтобы ей читать, помогать в вышивании (зрение старушки сильно уже ослабело). Особенно покорила она его сердце тем пафосом, с каким декламировала стихи Жуковского. Как исключительно восторженная натура, Лаврова и о самых обыденных вещах говорила в возвышенном тоне и нараспев.
Хотя Пирогову было тогда всего 22 года, но как по своему хладнокровному нраву, так и благодаря своим постоянным занятиям в анатомическом театре и клинике, он на все смотрел с прозаической точки зрения; а потому, о чем бы у него ни заходила речь с Лавровой, мнения их оказывались диаметрально-противоположными. Она сердилась, горячилась; а он, дав ей высказаться, преспокойно окачивал ее ледяным душем своей неотразимой логики.
Однажды, дойдя в таком препирательстве до красного каления, Лаврова договорилась до полной, бессмыслицы. Возражать по пунктам не приходилось, и Пирогов, не выбирая выражений, прямо ляпнул:
— Ну, знаете, это совсем уж глупо.
В черных глазах барышни вспыхнул огонь.
— Да как вы смеете! — крикнула она и бросилась на него с кулаками.
Он отшатнулся. Она схватила его за плечи и напрягала все силы, чтобы повалить его на земь. Тогда он взял ее так же за плечи и затряс, что было мочи. Барышня — в слезы. Он тотчас же, конечно, выпустил ее из рук; но она не могла успокоиться и истерически зарыдала.
— Я — женщина… Вы должны иметь уважение ко мне!
— А я — мужчина, — отвечал он. — Поступайте так, чтобы мужчины вас уважали.
Это было уж слишком! Разъяренной тигрицей она снова схватилась с ним. Тут, однако, вмешалась её подруга и не без труда разняла борцов.
При всей своей вспыльчивости Лаврова была и отходчива. За ночь гнев её испарился, и утром она была по-прежнему мила со своим противником,.
Совершенно в ином роде была другая барышня. Катя Воейкова, дочь известного в свое время сатирика-поэта, женатого на старшей дочери Протасовой. Окончив только что курс в петербургском Екатерининском институте, она гостила это лето у бабушки. С десятилетнего возраста проведя безвыходно в стенах института, она была еще детски-наивна и великая охотница поболтать и посмеяться.
Безобидно-веселому нраву её соответствовали и её эфирная фигура, свежее личико, голубые глазки и золотисто-белокурые локоны. Неудивительно, что у мужской молодежи она пользовалась большим успехом. Пирогов со своей стороны потешал ее всевозможными забавными анекдотами из университетской жизни.
Одним из объектов этих анекдотов был прозектор (человек, рассекающий трупы) профессора Цихориуса, доктор Вахтер. (Нудясь на него за какой-нибудь недосмотр при анатомических демонстрациях, Цихориус говорил ему:
— Г-н доктор Вахтер! Вы глупее, чем дозволяют русские законы!
Сим Пирогов очень ценил Вахтера, у которого с большою пользой прослушал приватно весь курс анатомии и спиртных препаратов.
Вообще же Вахтер был необыкновенный оригинал. С Пироговым он охотно говорил по-латыни экспромтами.
Так, когда они, выходя вместе из клиники на улицу, встречали кучку болтающих баб, он неизменно всякий раз изрекал одно и то же четверостишие:
— «Ouando convenninf;
Catherina, Rosina, Sibilla,
Sermonem faciunt
Et de hie, et de hoc, et de ilia».
(Как соберутся Катерина, Розина, Сибилла, так заведут разговор и о сем, и о том и об оном).
Мало веря в целебные свойства аптечных лекарств, в состав которых большею частью входят ядовитые вещества, Вахтер прописывал больным домашние средства, а из них всего чаще ромашковый чай. Однажды ночью его позвали к умирающему. Пока его добудились, пока он оделся и добрался до места, пациент успел уже отдать Богу душу. В темноте, подойдя к одру умершего, Вахтер произнес свою обычную фразу:
— Banken Sie mal Kamillenthee, mein Lieber; es wird schon gut werden. (Попейте-ка ромашкового чая, мой милый; ужо поправитесь).
Но когда он взял пациента за пульс, то заметил, что рука у того уже похолодела. Неизменно вежливый, однако он все-таки извинился:
— А, so! Verzeihen Sie: Sie sind schon tot. (А, вот что! Простите: вы уже мертвы!).
Забавляя такими анекдотами хохотунью Воейкову, Пирогов усиливал еще комизм своей серьезной миной.
— Знаете ли, Николай Иваныч, — заметила она ему раз: — из вас вышел бы прекрасный актер. Не устроить ли нам домашний спектакль?
— Устроимте. Но что играть-то?
— В институте у нас ставили, например, «Недоросля». И отгадайте-ка, кого я сама играла? Ни за что не угадаете: Митрофанушку!
Барышня залилась таким серебристым смехом, что заразила им и Пирогова.
— Ну, что ж, — сказал он: — чтобы посмотреть на вас в этой роли, — поставим также «Недоросля».
— Нет, этот раз я возьму себе роль Простаковой, а Митрофанушкой будете вы.
— Разве я уж так похож на него?
— И очень, только совсем наоборот: «не хочу жениться, хочу учиться».
— Вот это верно.
Скоро были навербованы и другие исполнители, и пьеса прошла для любительского спектакля очень гладко; самые же шумные вызовы выпали на долю Пирогова-Митрофанушки.
Не успел он оглянуться, как наступил и день отъезда за границу. Спутниками Пирогова были: товарищ его из профессорского института Котельников и дерптский приятель Самсоп-фон-Гиммельштерн. В своем жизнерадостном настроении все трое уже в Риге не пожалели своих кошельков. Так из выданного им (сверх путевых денег) за полгода вперед заграничного жалованья (800 талеров в год) немалая толика была поистрачена на всевозможные «европейские» удовольствия. А тут у пристани новый соблазн — датское судно, распустившее уже паруса, чтобы возвратиться в Копенгаген. Чем тащиться тысячу верст по пыльной дороге в колесном экипаже, не поплыть ли далее «синим морем»? И вот наши путешественники уже на палубе датского судна, выходят в открытое море… Разочаровались они, правда, довольно скоро: буря, качка, морская болезнь так допекли их что они были рады-радёхоньки, когда наконец через неделю ощутили опять под ногами твердую почву.
Датская столица с её опрятными улицами, усаженными рядами пирамидальных тополей и с её мирным, трудолюбивым населением, им чрезвычайно понравилась. Не менее отрадное впечатление вынес Пирогов и из осмотра местных госпиталей и клиник, директора которых встретили молодого русского хирурга с изысканною любезностью:
— Всем мы друзья, — высказался один из них, — всем, кроме немцев: немцы — наши злейшие враги.
Из вольного города Гамбурга до Берлина волей-неволей пришлось закупориться в почтовую карету. Около прусской границы Пирогову вспомнилось вдруг, что по пути он сильно порасстроил свои финансы. Чтобы сделать им подсчеты, он вынул бумажник. В это самое время карета остановилась у пограничной станции, чтобы принять нового пассажира — прусского офицера.
«Чего он так уставился на меня, как на чудище морское? — подумал Пирогов, видя, что новый спутник впился в него глазами. — Одет я, кажется, так же прилично, как все эти немцы»… Загадка вскоре разъяснилась.
— Позвольте спросить, милостивый государь, — вежливо обратился к нему офицер: — вы, верно, русский?
— Да, русский… — отвечал озадаченный Пирогов. — Но как вы сразу догадались?
— А по запаху.
— По запаху! Бог ты мой… Неужели от меня пахнет?
Офицер усмехнулся.
— Пахнет не от вас самих, а от ваших вещей: бумажника и обуви.
И благо, если русский человек за границей обращает внимание туземцев только этими внешними признаками, а не духовною некультурностью. Пирогов, пообтесавшись в Дерпте, во всяком случае, таким отрицательным свойством никого из иностранцев уже не поражал.
Глава шестая.
В Берлине. — Квартирная хозяйка и её сынок. — Товарищи: Штраух, Котельников и Липгардт.
Первою заботой Пирогова в Берлине был квартирный вопрос. После недолгих поисков ему удалось устроиться, по-видимому, очень недурно: вдова мелкого чиновника уступила ему за сходную плату большую комнату с отдельным входом. Обстановка была, правда, далеко не блестящая. Зато хозяйка взялась готовить ему обед; а домашний стол которым он пользовался уже в Дерпте у Мойеров, куда ведь питательнее, да и вкуснее трактирного.
Увы! В Берлине на этот счет оказались другие порядки: водянистая безвкусная жижа, именуемая супом, жареная или вареная подошва, носящая громкое название жаркого, и вязнущие в зубах блинчики, все притом в гомеопатических дозах, — как было насытиться этим молодому хоть и не избалованному желудку? Поневоле приходилось для утоления голода заходить то в колбасную, то в дешевый ресторанчик.
Но все это было бы еще с полбеды; настоящая беда грозила его тощему бумажнику с такой стороны, откуда он её совсем не ожидал. Дело в том, что свой бумажник он хранил в комоде, запиравшемся, как следует, на ключ. Но раз, взяв оттуда бумажник, Пирогов замечает, что бывшая еще там накануне пачка пятиталеровых ассигнаций сделалась как будто вдвое тоньше. Начинает он их пересчитывать, — так и есть! Капиталов его не хватит даже на квартиру и еду до следующего семестра; про гонорар профессору Шлемму за «privatissimum» по операциям над трупами и думать нечего.
Он — к хозяйке:
— Так и так, мадам: кто-то с подобранным ключом ходил ко мне в комод и рылся в моем бумажнике.
Мадам — в амбицию:
— Herrjemine! Да как вы, сударь, смеете подозревать меня, честную немку, вдову королевского прусского чиновника…
— Самих вас, мадам, я и не подозреваю. Но у вас есть сын-подросток…
— Чтобы мой Карльхен был вором! Вы, сударь, забываете, что вы не у себя в России, а в Пруссии, в Берлине…
— Точно в Берлине у вас все люди — ангелы? Для чего же у вас существуют полиция и тюрьмы? Допустим даже, что ваш Карльхен тут ни при чем; так кто-нибудь все же был у меня в комоде. Надо это расследовать.
— Ну, и расследуйте, жалуйтесь в полицию! Вот уж никогда мне и во сне не снилось, что придется возиться с полицией! Herrgottsdonnerwetterl
Делать нечего, подал он заявление в полицию; произвела та формальное дознание. Но прямых улик, у потерпевшего не имелось: не мог он даже определить, сколько именно денег у него было в бумажнике до пропажи. Так следствие ни к чему и не привело, кроме размолвки с хозяйкой.
А уплатить профессору Шлемму за «privatissimum» все-таки нужно, пока есть еще деньги. И поплелся он, скрепя сердце, к профессору с понуренной головой, как приговоренный к голодной смерти.
Вдруг кто-то его останавливает:
— Ба! Кого я вижу? Пирогов!
Смотрит Пирогов: перед ним знакомый дерптский студент-медик.
— Штраух! Вы-то здесь какими судьбами? Ах, да, помню: вы были вынуждены бежать за границу из-за дуэли?
— Да, моя пуля ранила противника в шею навылет около сонных артерий; полагали, что он истечет кровью…
— Ну, так могу вас успокоить, — сказал Пирогов: — я сам присутствовал при перевязке. Опасность, действительно, была серьезная. Было задето и дыхательное горло; больной долгое время не мог говорить.
— Да, мне потом уже писали об этом, а также, что он поправляется. У меня упал камень с плеч.
— И все-таки не вернулись в Дерпт?
— Будучи уже раз в Берлине, я остался слушать здешних профессоров.
— Так у вас есть порядочные собственные средства?
— О, да: у моего отца в Петербурге большая аптека.
— Счастливец же вы!
— А вы, Пирогов, разве нуждаетесь? Говорите прямо. Мне было бы это даже очень кстати.
— В каком отношении?
— А вот в каком: вы и в Дерпте уже отлично знали анатомию и понабили себе руку в операциях. Так если б вы поселились теперь вместе со мною, вы помогали бы мне в моих занятиях, а я за то предложил бы вам квартиру и стол, да и всякие удовольствия и развлечения.
— Но мне, право, совестно… — пробормотал Пирогов, у которого сердце в груди от радости запрыгало.
— Полноте! Я-то буду вам гораздо более обязан, чем вы мне: у меня будет постоянный компаньон и при работе и при отдыхе. Так что же: согласны?
— Еще бы не согласиться!
Так-то вот дальнейшее пребывание Пирогова в Берлине было разом обеспечено. Он имел свою отдельную комнату и обедал со Штраухом в студенческом ресторане, где свинину с тертым горохом и сельдерейным салатом (Seilerysalat) запивал легким пивом (Wassbier); по воскресным же дням они ходили вместе в Королевский театр смотреть классические пьесы Шекспира, Лессинга, Гёте и Шиллера.
Со своей стороны Пирогов помогал Штрауху, конечно, «по совести»: читал с ним и репетировал, а в анатомическом театре руководил его практическими занятиями по хирургической анатомии и оперативной хирургии. Старания его не пропали даром: после двухлетних занятий Штраух сдал в Дерпте экзамен на доктора.
Из других берлинских товарищей Пирогова заслуживают упоминания еще двое: Котельников, с которым он совершил всю дорогу из России, и Липгардт, с которым он подружился еще в Дерпте, работая вместе в анатомическом театре у профессора Мойера.
Котельников готовился к профессуре по математике, и еще в Дерпте не только товарищи, но и профессора Струве и Бартельс пророчили ему блестящую ученую будущность.
— Над математическими выкладками, над небесной механикой Лапласа недоедает ведь, недосыпает, — говорили про него все в один голос. — Это — будущее математическое светило, выше самого Остроградского, — лишь бы здоровье выдержало. От изнурительной лихорадки да кровохарканья и теперь уже обратился в скелет, в живого мертвеца. Того гляди, не выживет бедняга. Какая потеря для науки!
Опасения к счастью, не оправдались. Уже ко времени отъезда за границу кандидат в математические гении начал поправляться, а морской воздух по пути в Копенгаген еще более укрепил его легкие и развил у него волчий аппетит, так что в Берлин он прибыл пополневшим и с розовыми щеками.
Но здоровье не пошло ему в прок: вместо того, чтобы с новыми силами отдаться своей любимой науке, он целые дни теперь фланировал по улицам, отдыхать заходил в кофейню или ресторан, а вечер проводил либо в театре, либо в веселой компании где-нибудь за городом.
— Что это тебя, братец, совсем не видать в университете? — спросил его как-то Пирогов. — Бываешь ли ты вообще на лекциях?
Котельников смущенно улыбнулся.
— Нет, пока еще не собрался.
— «Пока»! Но ведь идет уже второй семестр. А между профессорами на математическом факультете есть также, слышно, известные ученые. Как тебе, право, не грешно?
— Грешно, душенька, что говорить. Духом я силен, но плоть немощна.
— Однако дома-то ты все-таки читаешь книги?
— Книг, признаться, тоже не читаю; разве что в кофейне развернешь газету.
— Не понимаю! Что это с тобой сделалось?
Котельников глубоко вздохнул и тронул пальцем лоб.
— Вот тут у меня словно что-то железным обручем сжимает, а ночью мечешься на постели, воздуху в груди не хватает. Вскочишь, растворишь окошко и стоишь этак в одной рубашке на холодном ветру; а то поскорей оденешься, выскочишь на улицу и бежишь себе без оглядки куда глаза глядят.
— Знаешь, Котельников, как это у нас по-русски называется?
— Как?
— Человек с жиру бесится. Тебе слишком сладко живется; надо посадить тебя на строгую диету.
— Тебе-то, Пирогов, легко рассуждать: у тебя катар желудка, поневоле держишься диеты; а у меня желудок варит чертовски исправно…
— Так возьми себя, наконец, в руки. Погулял, слава Богу; пора и честь знать.
Убеждения Пирогова, казалось, подействовали: Котельников «взял себя в руки». Возвратясь через два года в Россию, он выдержал-таки экзамен на магистра математики и положил профессуру в Казани. Ожидаемого гениального математика из него, однако, никогда так и не вышло.
Еще более любопытное явление в том же роде представлял Липгардт. В дерптском университете он не был настоящим студентом, а вольнослушателем, и занимался разными науками, так сказать, из любви к искусству. Будучи сыном богатого лисфляндского помещика, он до университета воспитывался дома под наблюдением выписанного из Швейцарии педагога. Явившись в Дерпт, он заявил, что желал бы слушать высшую математику. Профессор математики Бартельс отнесся к такому заявлению с понятным недоверием и дал молодому человеку для решения очень сложную задачу. Липгардт, немножко подумав, взял мел и начал выводить на доске уже без остановки формулу за формулой.
— Гм… гм… — скептически хмыкал Бартельс, так как сам решал задачу совсем иначе.
Когда же у Липгардта вывод все же получился тот же самый, профессор только руками развел.
— Ну, молодой человек, — объявил он, — у вас есть несомненный математический талант. Я очень охотно займусь с вами.
Способности Липгардта, однако, были не исключительно математические. Купив себе новейший в то время и лучший анатомический атлас Клок (С1оquet), он основательно занялся также анатомией, физиологией и хирургией; каждый день аккуратно посещал анатомический театр для практических работ. Так он вскоре сделался одним из любимых учеников Мойера и добрым приятелем другого его любимца — Пирогова.
В Берлине Липгардт не последовал примеру Котельникова: не поддался соблазну пустых удовольствий. Продолжая заниматься специально физиологией у профессора Иоганна Мюллера, он одновременно изучал также изящные искусства: живопись и скульптуру. Для этой же цели он из Берлина отправился потом в Италию, где пробыл несколько лет и откуда вывез к себе в Лифляндию очень ценную коллекцию картин, гравюр, статуй и слепков. Впоследствии Пирогов встретился с ним еще раз в Штутгарте, где Липгардт с неостывающим увлечением изучал средневековую готическую архитектуру. Сверх того, он всегда с живым, интересом следил и за политическими вопросами. Словом сказать, это была бесспорно богато-одаренная натура, многосторонний талант, но талант пассивный, быстро усваивающий только чужое, а не активный, не самодеятельный и творческий.
«Из знакомых мне людей — замечает Пирогов, — Карл Липгардт всех более доказал мне, как различны между собою две способности человеческого духа: емкость ума и его производительность (Kapacitat und Produktivität): от первой зависит способность приобретать самые разносторонние сведения, от второй — способность извлекать из приобретенных сведений нечто самодельное и самостоятельное… Не сведения, не знания, приобретенные емкостью ума, а какая-то, не каждому уму свойственная, vis a tergo толкает его к новой работе, извлечению этого чего-то, своего, из запаса знаний. Так, Липгардт был несравненно образованнее и по емкости ума гораздо умнее меня, умнее и многих ученых, способствовавших ему приобретать многосторонние знания; но Липгардту недоставало этой самой vis a tergo. Люди с умами этой категории родятся для умственных наслаждений; но уму, кроме огромной емкости, необходима еще и большая производительная сила, чтобы сделаться гумбольтовским».
Сам Пирогов, считавший себя по врожденной скромности менее даровитым, чем Липгардт, обладал именно этою производительной силой, сделавшей его со временем всемирным научным светилом, своего рода Гумбольтом в хирургии.
Глава седьмая.
Берлинские профессора: Кранихфельд, Гуфеланд, Руст, Диффенбах, Грефе и Шлемм. — Прозекторша Фогельзанг. — Геттингенский профессор Лангенбек.
Инспектором над кандидатами русского профессорского института в Берлине был назначен профессор Кранихфельд, окулист и последователь гомеопатии, который, впрочем, спустя некоторое время должен был сдать своё инспекторство русскому генералу Мансурову. Кранихфельд не замедлил представить молодых людей их будущим профессорам.
Пирогова он повёл прежде всего к Гуфеланду, о котором Пирогов слышал уже, как о знаменитом френологе (черепослове). Это был высокого роста, сановитый, 70-ти-летний старец. Глаза его, по слабости зрения, были защищены зеленым зонтиком; но над этим зонтиком виднелся необычайно развитый лоб, и выдающийся подбородок свидетельствовал о большой энергии и силе воли.
«Немудрено, что он стал френологом, — подумалось Пирогову: — над собственным черепом ему легче всего исследовать человеческие способности».
Принял Гуфеланд обоих посетителей с той невозмутимой торжественной важностью, с какой средневековые бургграфы принимали своих вассалов. Пирогову он предложил несколько вопросов о дерптском университете, дал ему несколько добрых советов, как работать с пользою для себя и для науки, а затем милостиво отпустил опять обоих.
— Да это какой-то олимпиец! — заметил Пирогов на улице Кранихфельду.
— Именно что так, — подтвердил тот. — Он да Гёте — вот наши два германских олимпийца.
— Но Гуфеланд не более, как френолог…
— Так вы не знаете, что он — основатель здешнего поликлинического института, здешнего медико-хирургического общества, что он — лейб-медик его королевского величества и еще до сих пор числится при нашем университете профессором терапии и хирургии.
— Числится? — переспросил Пирогов. – Стало быть, лекций он уже не читает?
— Нет, на старости лет он отдыхает на лаврах в родной семье. Но еще не так давно у него была своя собственная клиника…
— Так для чего же вы, г-н профессор, водили меня к нему?
— А как же: все медики идут к нему еще на поклон, как правоверные в Мекку ко гробу пророка.
После Гуфеланда Пирогов был отрекомендован еще тем из профессоров-клиницистов, у которых он располагал заниматься; а затем с первого же семестра записался у них на лекции и практические работы.
Все это были крупные научные величины; но все они более или менее пренебрегали анатомией и физиологией, т.е. теми двумя науками, которые английские и французские врачи уже тогда считали азбукой практической медицины. Поэтому-то берлинские клиницисты, определяя болезнь, при всей своей практической опытности, впадали иногда в презабавные ошибки.
Примером тому мог служить Руст, клиника которого в Charité (госпитале для неимущих, от французского слова «charité» — «милосердие») пользовалась во всей Германии вполне заслуженною славой одной из образцовых клиник. Сам, не занимаясь уже практической медициной, Руст ограничивался диагнозом (распознаванием болезней по их отличительным признакам). Как бы сознавая, однако, недостаточную эрудицию свою в анатомии и физиологии, Руст не приступал к диагнозу, не заручившись предварительно сведениями о болезненных симптомах каждого больного. Эти сведения докладывались ему до лекции ординаторами клиники, а затем на самой лекции он с полным апломбом определял, будто уже от себя, свойства данной болезни.
Случилось как-то, что в клинику поступили два пациента: один с переломом ключицы, другой с онемением плеча от удара молнии, и оба были одновременно введены в аудиторию. Малорослый старик-профессор, с обрюзгшим багрово-красным лицом и с выбивающимися из-под зеленого суконного картуза, растрепанными седыми волосами, опираясь на трость (потому что страдал подагрой), двинулся к новым двум пациентам. Окинув обоих из-под нависших бровей сквозь серебряные очки своим пронзительным, умным взором, он невольно остановил свое внимание на более нервном субъекте, придерживавшем одной рукой локоть другой руки.
— Ну-с, скажите-ка, что это такое? — обратился он к ближайшему практиканту, тыкая тростью в плечо больного.
Практикант хотел было исследовать больного; но Руст грубо отстранил его:
— Sind Sie toll! (Что, вы с ума сошли!). В данном случае с одного взгляда, par distance, можно определить, в чем дело.
Окружающие слушатели любознательно придвинулись еще плотнее к профессору.
— Взгляните на положение тела, — продолжал Руст: — не задумываясь можно сказать, что это перелом ключицы…
Тут стоявший около профессора ординатор наклонился к его уху и сообщил ему что-то такое, от чего тот смущенно замялся:
— Hm… ja so… Т.е., изволите видеть, господа, подобное же положение принимает тело иногда и при внезапном параличе плеча. Это вот как раз исключительный случай: плечо парализовано молнией.
Такие промахи случались у Руста, разумеется, довольно редко и оставались обыкновенно незамеченными, так как больных тотчас после диагноза отправляли для лечения в палаты Charité, куда практиканты уже не допускались. На практикантов, однако, оракульские изречения Руста по одним внешним признакам производили очень сильное впечатление.
«Я и сам, — признается Пирогов, — в первые годы моей клинической деятельности в Дерпте держался этого способа и увлекал им молодежь… И теперь предварительному диагнозу до расспроса больного я считаю более падежным; никому, однако же, из молодых врачей не посоветую основываться на этом одном предварительном распознавании (болезни, считая необходимым, после расспроса и рассказов больного, снова повторить свой объективный диагноз, нередко после этих расспросов требующий еще и нового расследования».
У Руста, как у большинства выдающихся людей, было немало завистников и недоброжелателей. Его низкорослая фигура и оригинальная внешность служили им благодарною темой для недостойных острот, которые потом живо распространялись по всему городу. Когда он выступил защитником карантинной системы, в окнах эстампных магазинов «Под Липами» появилась карикатура, где он был изображен в виде воробья в клетке, а под рисунком было пояснение:
«Passer rusticus».
«Der gemeine Landsperling».
В прямом смысле это значило: «простой деревенский воробей». Соль же карикатуры заключалась в игре слов: Руст — rusticus, Landsperre (карантин) — Landsperling, и в эпитете «der gemeine», означающем также «подлый», «низкий». Хотя подлость и низость была именно на стороне насмешников, но карикатура имела успех, — что и требовалось.
Занимаясь сам почти исключительно диагнозом, Руст всю оперативную часть в Charité предоставил своему помощнику Диффенбаху. Лекторским талантом Диффенбах не обладал: несмотря на широкую, выпуклую грудь, голос у него был тоненький и слабый, а речь несвязная и вялая, точно ему жаль было поделиться своей мудростью со слушателями. Но пластические операции его были верх совершенства. Объяснялось это, между прочим, тем, что, ещё будучи студентом в Кёнигсберге, он напрактиковался по этой части в местной берейторской школе, а на студенческих дуэлях сшивал раны дуэлянтов, в качестве так называемого «заплатчика» (Flicker).
Пирогов застал этого (по собственному его выражению) «гения-самородка» в полном расцвете его феноменального таланта. В глубоких глазах его светился живой ум; всё его красивое лицо с римским носом и высоким лбом дышало благородством. Но вот он берётся за хирургические инструменты, чтобы приступить к одной из своих пластических операций, — и черты его внезапно преображаются; в задумчивом взоре вспыхивает какой-то священный огонь; сам он, хотя и широкоплечий, но приземистый, словно вырастает на глазах окружающих, и тех охватывает безотчетный трепет ожидания: что-то он опять сымпровизирует! И в ожиданиях своих они никогда не обманывались: каждая операция не только производилась блестяще, но представляла всегда нечто невиданное и поучительное.
Еще большую противоположность с Рустом представлял профессор-окулист Грефе, постоянно и враждовавший с ним.
Родом Грефе был из Польши, и, по мнению одних, в его жилах текла славянская кровь, по мнению других — еврейская. В его внешности прежде всего поражала своеобразная прическа: темные с проседью, волосы, обильно напомаженные, были зачесаны, или, вернее сказать, прилизаны длинными прядями справа налево так, что прикрывали лоб чуть ли не до самых бровей, пушистых и черных. От этого все лицо его, пухлое и тщательно выбритое, походило на лицо куклы.
На лекции Грефе являлся всегда «в параде»: или в форменном синем мундире с густыми эполетами, или в элегантном статском костюме. Входил он в аудиторию мягкой кошачьей походкой, приветственно наклоняя голову во все стороны, а взойдя на кафедру, окидывал своих слушателей ласковым взглядом и начинал певучим голосом:
— Meine hochgeschätzten Herren! («Милостивейшие государи!» Буквально же: «высокочтимые господа!»).
Волновался он крайне редко, да и тогда не возвышал тона; со всеми был одинаково корректен и учтив. Даже пациентов из простолюдинов он называл не иначе, как «mein liebster Freund» (любезнейший друг).
Ту же педантичную аккуратность и чистоту соблюдал он при производстве операций поражая своими мастерскими приемами и быстротою работы. Чтобы в операциях не было ни малейшей задержки, все необходимые инструменты (по большей части — собственного изобретения Грефе) лежали тут же в определенном порядке и ассистенты в данную минуту молча подавали ему все что следовало. С такою же тщательностью перевязывал он все кровеносные сосуды, а края раны соединял наглухо швом или липкими пластырями, сверх которых накладывал, разумеется, еще бинты. Это было своего рода священнодействие, присутствовать при котором всеми практикантами считалось обязательным. Виртуоз-оператор разрешал им также следить потом за ходом болезни, делать и самостоятельно операции, но непременно по его способу и его же изобретения инструментами. Так и Пирогов произвел в его клинике три операции.
«Грефе остался доволен, — говорит Пирогов; — но он не знал, что все эти операции я сделал бы вдесятеро лучше, если бы не делал их неуклюжими и мне несподручными инструментами».
В оперативной хирургии над трупами Пирогов брал «privatissimum», как уже упомянуто, у профессора Шлемма. Сам Шлемм оперировал исключительно на трупах и, превосходно изучив на них анатомию, работал артистически. Пирогова, как хорошо уже знавшего анатомию и на редкость ретивого практиканта, Шлемм особенно охотно посвящал во все тонкости своего дела.
Любопытно, однако, что самую наглядную пользу по специальности Шлемма наш будущий знаменитый хирург вынес все-таки под руководством не самого Шлемма, а женщины-операторши.
Совсем случайно ему стало известно, что за определенную плату можно присутствовать при вскрытии трупов в Charite. Войдя с этой целью в препаровочную, Пирогов остолбенел на пороге: в довольно тесной комнате, где умещалось всего два стола, на этих столах лежало по два, по три трупа, живых же существ было всего одно — в чепце, в клеенчатом переднике и с клеенчатыми нарукавниками, — очевидно, особа прекрасного пола. Лицом, впрочем, она походила скорее на старую обезьяну. Занятая своим делом — вскрытием трупа, почтенная дама сначала и не заметила вошедшего, пока тот не подошел к ней с поклоном. Она с недоумением оглядела его с головы до ног и спросила:
— Угодно вам что от меня?
— Да-с, мне хотелось бы присутствовать здесь при вскрытиях.
— Что ж, пожалуй, приходите хоть каждый день.
— Так вы, сударыня, бываете здесь каждый день?
— А то как же: кроме меня никто здесь не вскрывает.
— А профессора Charité?
— Профессора! Разве они что-нибудь смыслят в этом деле! Вот хоть бы еще вчера: никто мне не верил, что при вскрытии одного трупа окажется огромный эксудат в груди. Хороши господа, нечего сказать! За милю видно было, что вся половина груди растянута.
— А тогда вам поверили?
— Как не поверить, когда улика налицо. Так-то вот, и да!
Пирогов исполнился невольного уважения к столь опытной прозекторше.
— Позвольте, сударыня, узнать ваше имя?
— Мадам Фогельзанг.
— Так вот, мадам Фогельзанг, не разрешите ли вы мне также поупражняться у вас над трупами?
— Сделайте одолжение. Вы ведь, я вижу, иностранец?
— Да, я — русский.
— Очень рада. Иностранцам я не раз уже показывала, как оперировать трупы.
— А ваши условия, сударыня?
— Один талер за штуку.
— Т.е. за труп?
— Ну да. Тогда вы можете оперировать на нем, сколько душе угодно. Кроме того, однако, с вас придется еще 15 зильбергрошей за перевязку артерий и за вылущение из суставов. Да задатка — три талера {В талере, по номинальной стоимости того времени — 93 коп., считалось 30 зильбергрошей.}.
Пирогов достал из кошелька и вручил ей три талера и с этого же дня сделался её постоянным клиентом. Так за время его пребывания в Берлине не одна сотня трупов прошла через его руки. Мадам Фогельзанг, видя такое его усердие, не раз приносила ему, как знатоку и ценителю, разные препараты, почему-либо заслуживавшие внимания:
— Полюбуйтесь-ка: какая прелесть!
Еще в Дерпте от Мойера Пирогов наслышался о гёттингенском хирурге-анатоме Лангенбеке. В Германии последний пользовался общепризнанной, громкой славой и медики-гёттингенцы, с которыми Пирогову случалось сталкиваться в Берлине, отзывались об искусстве Лангенбека с единодушным восторгом. Как же было не поучиться также у этого маэстро?
И вот, еще задолго до конца первого семестра 1834 года Пирогов покатил в Гёттинген. В этом провинциальном немецком городке, совсем так же, как в Дерпте, все интересы горожан вращались около университета с его профессорами и студентами.
Сам Лангенбек, несмотря на свою знаменитость, относился к своим слушателям патриархально-просто; поучать их своему искусству доставляло ему видимо удовольствие, и, как отец, он ободрял их безропотно переносить все превратности жизни.
— Frisch in’s Leben hinein, frisch in’s Leben hinein (смело вперед)! — говаривал он, когда кто падал духом. — Keinen Leichtsinn, aber leichten Sinn (без легкомыслия, но с легким сердцем)!
В молодости он несомненно был красавцем-богатырем. Да и теперь, в зрелом возрасте, его атлетически-могучая фигура, его энергичное, пышущее здоровьем лицо, его звучный, трубный голос сразу покоряли его новых учеников.
При анатомических демонстрациях, благодаря своей исполинской ладони и длинным пальцам, он целый мозг человека умещал у себя на руке, как на тарелке; а когда ампутировал бедро, то одною же рукою охватывал весь верх бедра и сам при этом с ловкостью гимнаста поворачивался на одной ноге своим грузным туловищем, приноравливая движения всего тела к действию оперирующей руки.
Так называемые «анестезирующие» средства, уничтожающие боль при хирургических операциях, никем еще в то время не применялись. Поэтому, для возможного сокращения продолжительности страданий оперируемого Лангенбек, как и Грефе, придавал особенное значение быстроте операций. Но у Лангенбека, при равном с Грефе искусстве, было одно громадное преимущество — превосходное знание внутреннего строения всего человеческого тела. Поэтому ножом он действовал с такой уверенностью, какой, конечно, не могло быть у Грефе.
Сам Лангенбек не без самодовольства рассказывал Пирогову, как во время французской кампании он разудивил одного английского хирурга. Тому не верилось, чтобы какой-то немец мог вылущить плечо из сустава в три минуты. И вот, когда после одной битвы в полевой лазарет к Лангенбеку доставили раненого с раздробленным плечом, неверующий Фома был опять тут как тут. Раненого усадили на стул, Лангенбек засучил рукава, а англичанин, чтобы лучше разглядел, достал из кармана очки, отер их платком и собирался только что оседлать ими нос, как вдруг мимо самого его носа пролетело что-то и попутно вышибло у него из рук очки.
— Goddam! — буркнул он. — Что это такое, мистер Лангенбек?
— А вылущенное плечо.
Для своих ампутаций Лангенбек придумал особой формы нож с дугообразно-выгнутым и тонким, как бритва, лезвием. Держал он этот нож не всем кулаком, а одними лишь пальцами, чтобы острая сталь отнюдь не вдавливалась в разрезаемую ткань, а скользила по ней наподобие смычка. Так он выражался и сам:
— Ампутационный нож в руке хирурга должен быть смычком. Kein Druck, nur Zug (не нажимать, а только водить).
И Пирогов перенял от него этот чрезвычайно важный прием, применяя его впоследствии при всех случаях, где то оказывалось возможным.
Глава восьмая.
Возвращение в Россию. — Нос рижского цирюльника. — Литотомия в две минуты. — Профессура.
Незадолго до срока, когда Пирогову надо было опять возвратиться в Россию, ему сделан был из Петербурга запрос: в каком университете он желал бы получить кафедру.
Не задумываясь, он назвал московский университет и тогда же написал матери и сестрам в Москву, чтобы те подыскали побольше квартиру. То-то они обрадуются жить опять с ним!
Приятель его Котельников, с которым у него было условлено совершить вместе обратное путешествие, заранее уже запасся двумя билетами в почтовом дилижансе, который должен был через Кенигсберг доставить их до пограничного прусского города Мемеля. И вот, в мае месяце 1835 года они сели в дилижанс и двинулись на родину.
Нам, людям XX века, пролетающим пространство от Петербурга до Берлина в покойном и удобном курьерском поезде менее чем в полторы суток, трудно себе и представить положение путешественников первой половины прошлого столетия, которые в течение нескольких дней и ночей должны были трястись по почтовому тракту в душном дилижансе, битком набитом пассажирами.
Страдая хроническим катаром желудка, Пирогов никогда не мог похвалиться особенно крепким здоровьем. Еще до отъезда из Берлина, должно быть, от майских жаров, ему стало не по себе. Но билеты были взяты; ехать приходилось во что бы то ни стало, — и он поехал. Двое суток он перемогался; но на третьи напрямик объявил Котельникову, что долее выносить дорожную пытку не в силах.
— Поезжай один, — сказал он: — а я останусь здесь на станции.
— Нет, дружище, одного тебя я не оставлю, отвечал верный товарищ. — Для компании и жид удавился.
Затем он обратился к остальным пассажирам:
— Господа! Мой приятель, как видите, совсем расклеился и ехать с нами дальше положительно не может. Оставить его здесь одного в таком беспомощном состоянии — с моей стороны было бы преступлением. Правда, господа?
— О, ja! — единогласно согласились все пассажиры.
— А между тем наши билеты пропадут, если мы не докажем, что должны были остаться. Могу я просить вас вашими подписями удостоверить, что это действительно так?
Дать такое удостоверение те нимало не задумались, потому что за двое суток не могли, конечно, не заметить, как мучился их больной спутник; а втайне они были, пожалуй, и довольны сбыть его с его приятелем, так как от этого в дилижансе должно было стать немножко хоть просторней.
Выспавшись на станции, Пирогов к следующему утру настолько оправился, что был в состоянии продолжать опять путь в подъехавшем между тем другом дилижансе. В Мемеле они с Котельниковым снова переночевали, а затем наняли извозчика уже до Риги. Но ехать пришлось им через ночь; к восходу солнца воздух до того посвежел, что Пирогов сильно простудился. Когда они наконец доплелись до Риги, Пирогов, как вошел в заезжий дом, так и свалился с ног.
— Поезжай дальше один, — объявил он Котельникову. — Денег на тебя одного ровно еще хватит.
— А ты как же? — спросил тот.
— А я напишу здешнему генерал-губернатору; он же ведь и попечитель дерптского округа. Авось не даст мне помереть.
Сказано — сделано. Что именно написал он в своем отчаянном, полугорячечном состоянии, — сам он потом уже не помнил. «Но судя по результату, — говорится в его «Дневнике — я, должно быть, навалял что-нибудь очень забористое»: от имени генерал-губернатора тотчас прилетел медицинский инспектор Леви, снабдил его деньгами и отвез в карете в загородный военный госпиталь, где поместил в лучшей комнате бельэтажа. Хотя уход за ним был и образцовый, но болезнь долго не поддавалась лечению: потребовалось целых два месяца, пока больной стал опять на ноги. Тут навестил его сам генерал-губернатор. Когда Пирогов выразил беспокойство, что давно должен бы быть уже в Петербурге, тот перебил его:
— Сперва, любезнейший, совсем поправьтесь; торопиться вам нечего: я сносился уже о вас с министром. А вот вам и ассигновка на жалованье, пока вы не займете кафедры.
На душе у Пирогова отлегло. Не торопясь, он стал готовиться к отъезду. Но еще до отъезда он имел не один случай блеснуть перед рижанами своим оперативным искусством.
Первым за его помощью обратился цирюльник, у которого не оказалось носа:
— Я к вашей милости, г-н доктор: — вы обещали сделать мне новый нос.
— Я обещал? — удивился Пирогов. — Когда, братец?
— Да вот, извольте только припомнить: когда я брил вас еще в постели.
— Правда? Хоть убей, не помню! И рожу твою будто в первый раз вижу.
— А ей-Богу же обещали; вот вам крест!
— Что значит болезнь, анемия мозга: даже память отшибло! Ну, что же, коли раз обещал, так надо и сдержать обещание. А ведь нос-то придется сделать из кожи твоего собственного лба..
— Без того нельзя, сударь?
— Невозможно; а жаль: лоб у тебя образцовый; не хотелось бы портить.
— Стало, и нос выйдет образцовый?
— Надеюсь.
— Так чего жалеть-то? На лбу кожа, какая ни на есть, опять вырастет; а носа другого, сколько ни жди не дождешься. Будьте уж столь милостивы, г-н доктор! Век за вас Богу молиться буду!
Нос, действительно, вышел на загляденье; самому Пирогову он так приглянулся, что он срисовал себе его на память (фотографии тогда еще не существовало).
Слух об искусственном носе цирюльника мигом облетел всю Ригу, и Пирогова пригласили к одной барыне сделать ей такой же нос. Затем Пирогова, что ни день, звали для какой-нибудь операции.
В военном госпитале, где жил он, были два пациента, нуждавшиеся в хирургической помощи: одному надо было произвести камнесечение, другому — ампутацию в верхней части бедра. Ни у кого из госпитальных ординаторов не хватало на то духу; а Пирогов исполнил обе ответственные задачи, так сказать, шутя. Тут ординаторы приступили к нему с просьбой — прочитать им несколько лекций из хирургической анатомии и операционной хирургии, с демонстрациями на трупах. Читать свои лекции пришлось ему на немецком языке, которым он владел еще далеко не в совершенстве; тем не менее успех был полный. Особенно польстила ему чистосердечная похвала одного старика — ординатора, получившего докторскую степень в Иене:
— Вы, г-н Пирогов научили нас тому, чего и учителя наши не знали.
Так подошла осень; можно было ехать в Петербург, а по пути завернуть и к старым друзьям в Дерпт.
В доме Мойера его приняли с распростертыми объятиями. Но, после первых беспорядочных расспросов и ответов, старушка Протасова озадачила его негодующим возгласом:
— А Иноземцев-то ваш каков? Вот вам и закадычный друг!
— Закадычным другом моим он никогда не был, — сказал Пирогов: — мы слишком расходились с ним и характерами и воззрениями.
— Но все-таки такое коварство непростительно!
— А что же он сделал такое, Катерина Афанасьевна?
— Да неужели вы еще не слыхали, что он перехватил у вас кафедру хирургии в Москве?
Пирогов точно с облаков упал и не нашелся даже что сказать.
— Мы оба, Катерина Афанасьевна, судим, пожалуй, пристрастно, — вступился тут за отсутствующего более спокойный Мойер. — Меня самого сначала возмутил поступок Иноземцева. Но из последнего письма его ко мне видно, что о назначении его просил министра попечитель московского университета граф Строганов, а сами вы знаете, какая это сила.
— Да ведь и Строганов не мог бы принудить Иноземцева взять кафедру, которая уже обещана другому. Нет, я уверена, что Иноземцев сам хлопотал, у Строганова; своей счастливой внешностью, всем своим обхождением он так умеет обворожить всякого…
— Да, по этой части куда уж мне против него! — вздохнул Пирогов и поник головой. — Мне не так даже больно за себя, как за матушку и сестер: они так ведь были рады, что я поселюсь наконец опять с ними…
— Не вы к ним теперь поедете, так они к вам приедут, — старался утешить его Мойер. — Одно место ушло — найдется другое. А пока что, вы отдохнете у нас, да кстати покажете свое искусство и в нашей клинике. В Берлине вы, Николай Иваныч, дружили ведь со Штраухом?
— Как же; я жил даже у него.
— Ну вот. Он сдал здесь на днях свой докторский экзамен и пишет в настоящее время диссертацию. Про вас он протрубил по целому Дерпту, что в литотомии (камнесечение) над трупами вы и в Берлине не имели себе равных. А в клинике у меня лежит как раз один субъект, который мучится камнем. Что бы вам освободить беднягу от него?
— Да я, Иван Филиппыч, только ждал такого случая, — отвечал Пирогов.
В определенный для литотомии день и час операционная в клинике наполнилась зрителями не только из студентов, но и из профессоров.
«Штраух и вправду позаботился прославить меня», — подумал Пирогов; но сердце у него не забилось сильнее: он был вполне в себе уверен.
По примеру Грефе, внушив своему ассистенту, в каком порядке держать наготове инструменты, он без дальних слов приступил к делу.
Окружающие следили за каждым его движением, затаив дух и с часами в руках: интересно было все-таки знать, сколько минут потребует у него такая серьезная операция.
И вдруг, — что за диво! — причинявший столько болей пациенту камень, в виде продолговатой сосульки, уже в руках оператора. Изумление было всеобщее:
— В две минуты! Даже менее двух минут! Поразительно!..
Не меньшую сенсацию вызвал он вслед затем извлечением из носа другого пациента громадного полипа.
С этого дня все оперативные случаи в клинике перешли всецело в руки Пирогова, и клиника сделалась у студентов-медиков излюбленным местом собраний.
О будущем сам он отложил пока всякие попечения; но о судьбе его думали уже другие. В одно прекрасное утро Мойер позвал его к себе в кабинеты.
— Скажите-ка, Николай Иваныч: не хотите ли вы занять кафедру хирургии здесь, в Дерпте? Пирогов сначала даже в толк не взял.
— Т.е. как же так? Ведь кафедра по хирургии здесь всего одна и занята она вами?
— Совершенно верно; но поработал я на своем веку довольно, устал, пора и честь знать. Вам же передать мою кафедру я могу со спокойною совестью.
— Вы, Иван Филиппыч, слишком великодушны…
— Перестаньте, пожалуйста! Мне надо только знать: хотите вы ее принять или нет?
— Профессура в Москве для меня уже потеряна; а потому мне теперь все равно, где ни получить кафедру.
— Ну, так дело в шляпе. Сегодня же предложу вас факультету и извещу потом министра; а когда получится его согласие, предложение пойдет и в наш совет.
И все сделалось по сказанному, как по писанному: медицинский факультет выбрал Пирогова в экстраординарные профессора единогласно; со стороны министра против такого выбора препятствия также не встретилось…
На этом мы могли бы в нашем рассказе, пожалуй, поставить точку, так как со вступлением Пирогова в период самостоятельной учебно-практической деятельности школьные и академические годы оказались у него уже за спиной. Но для полной оценки плодотворности многолетней академической подготовки мы считаем все-таки нужным развернуть еще перед читателями в заключение самую яркую страницу в последующей жизни этого великого мастера своего дела, где его самоотверженное служение на пользу страждущего человечества проявилось во всем своем блеске.
Заключение.
Пирогов в Крымскую кампанию.
Две знаменательные встречи с великой княгиней Еленой Павловной никогда не изгладились из памяти Пирогова.
Первая встреча их состоялась в 1847 году, тотчас по возвращении Пирогова в Петербург с поля военных действий на Кавказе. От этих виденных там ужасов и от массы произведенных им самим ампутаций в полевых лазаретах нервы у него были истерзаны. Измученный вдобавок двухнедельной тряской на перекладных, он не дал себе даже времени переодеться в парадный мундир и увесить себя регалиями, а поспешил явиться по начальству — к военному министру с докладом о положении санитарной части нашей армии. Прием со стороны министра был очень сух, а присутствовавший при докладе начальник медико-хирургической академии, вместо того, чтобы войти в подробности командировки нашего хирурга, сделал ему только строгий выговор за «нерадение к установленной форме». Нервы Пирогова не выдержали: вернувшись к себе домой, он упал на кровать и заплакал, как ребенок. «Подам в отставку — и конец!»
Вдруг звонок. — «Кому еще до меня какое дело?»
— Курьер из Михайловского дворца.
— Ко мне из дворца?
— Точно так. Великая княгиня Елена Павловна желает вас сейчас видеть.
И раньше уже он наслышался о высоких душевных качествах и светлом уме этой замечательной женщины. Он не замедлил поехать во дворец. Великая княгиня выказала к нему самое искреннее уважение, как к светилу науки, и с живейшим интересом расспрашивала его обо всем, что было сделано им для облегчения положения жертв войны, особенно же об анестезации, которую он первый из всех врачей в мире применил на поле сражения.
После этой аудиенции Пирогов совсем воспрянул духом и оставил уже мысль об отставке.
Прошло семь лет; возгорелась злосчастная Крымская война. Пирогов стал проситься в действующую армию, где мог принести опять такую пользу страдальцам за родину. Но проходила неделя за неделей, а ответа от начальства все не было: просьба его была положена под сукно.
Тут снова за ним присылают из Михайловского дворца. Там-то хоть не совсем забыли еще о нем!
Ожидала его Елена Павловна, видимо, с большим нетерпением; не переступил он еще порога приемной, как она с протянутой рукой поспешила уже ему навстречу.
— Здравствуйте, Николай Иванович! Мы с вами ведь старые знакомые. Вы слышали, конечно, про наше поражение при Инкермане?
— Слышал, ваше высочество…
— И все-таки не трогаетесь с места, сидите в Петербург, когда там тысячи раненых истекают кровью?
— Я, ваше высочество, давно уже рвусь туда всей душой. Но просьбе моей не дают ходу.
— Так я беру на собственную ответственность разрешить вашу просьбу! Садитесь. У меня в голове целый план, как организовать правильный уход за ранеными. Но, прежде всего, скажите мне: как вы сами относитесь к женской службе в госпиталях?
— По правде сказать, мне только раз в Париже, и то мимоходом, довелось видеть сестер милосердия за госпитальной работой…
— Но ведь и у нас тут в Мариинской больнице, в общине на Песках, есть так называемые сердобольные вдовы?
— Нигде, однако, сколько мне известно, не сделано еще попытки посылать женщин под град пуль…
— Потому что, по мнению мужчин, женщины со страху падали бы в обморок и сами раненые должны были бы приводить их в чувство. Или вы, Николай Иванович, другого мнения?
Пирогов замялся.
— Судить, ваше высочество, наобум, без опыта, я затрудняюсь…
— И вы, значит, тоже предубеждены против нас, как все другие! — воскликнула Елена Павловна, срываясь с места, и большими шагами заходила по комнате. — Мы, женщины, правда, пугливее вас, мужчин, но в решительные минуты у нас выдержки гораздо более, чем у вас. Да речь вовсе и не идет о том, чтобы посылать сестер милосердия прямо в огонь. Выносить тяжело раненых из огня могут их товарищи-солдаты. Но по близости сражения должны быть перевязочные пункты, подвижные лазареты, и здесь-то, мне кажется, помощь сестер была бы особенно полезна.
— Против этого, ваше высочество, у меня нет возражений, — сказал Пирогов. — Напротив, ваша мысль мне чрезвычайно по душе, и если б только среди русских женщин нашлись также желающие…
— Найдутся, Николай Иванович, поверьте, найдутся! — подхватила с живостью великая княгиня, и разгоревшееся лицо её вспыхнуло еще ярче. – Стало быть, вы беретесь работать с сестрами милосердия?
— С величайшей готовностью.
— О, как я рада, как я вам благодарна!
На глазах её выступили слезы умиления. Обеими руками схватила она руки Пирогова и крепко-крепко их сжала.
— Весь медицинский персонал вы наберете себе, разумеется, сами; всю медицинскую часть на месте устроите точно также сами. Что же до общины сестер милосердия, то это будет уже моя забота…
В неописанном возбуждении она снова зашагала взад и вперед; но через минуту остановилась вдруг перед Пироговым и обратилась к нему с горьким упреком:
— И как это вы, Николай Иванович, сами раньше не пришли ко мне? Давно бы вы были на месте, давно бы и мой план состоялся… Подробности мы обсудим с вами в другой раз: сегодня я слишком взволнована… Ступайте теперь и готовьтесь скорее к отъезду… Терять времени не следует… На днях ожидают ведь опять большое сражение… Прощайте.
Вечером того же дня курьер привез ему собственноручную записку великой княгини о том, что на удовлетворение его просьбы начальством выражено согласие, и что на другой день в таком-то часу она ожидает его опять у себя.
Эта вторая аудиенция продолжалась значительно дольше первой, так как надо было зрело обсудить и точно установить те основания, на которых женская служба на войне могла бы принести наибольшую пользу. Тут Пирогов имел случай еще более оценить высокий нравственный образ Елены Павловны.
Организованная великою княгинею Еленою Павловной Крестовоздвиженская община отправилась из Петербурга еще в ноябре 1854 года, а в начале декабря работала уже на месте.
Сам Пирогов с двумя другими врачами и фельдшером опередил сестер несколькими днями. Каковы были в те времена пути сообщения в осеннюю распутицу у нас наглядно можно видеть из его писем к жене, в которых он свои дорожные злоключения описывал со свойственным ему юмором.
«Дорога от Курска до Севастополя (писал он 14 ноября 1854 года) есть ряд мучений для того, кто находится в приятном заблуждении, что дороги назначены для уменьшения пространства и времени в житейском сообщении. Я рассматриваю их как особенный род сотрясения для кишек, и потому отношу поездку в Севастополь осенью и преимущественно в военное время к превосходной гимнастике брюшных внутренностей. Толчки, перекаты и тьма других телодвижений, конечно, не вовсе безызвестные жителям Гороховой и Вознесенского, встречаются здесь в таком мифическом объеме, что наконец понятие о ровном месте начинает делаться также чем-то в роде мифа. Тарантас наш оказался образцом прочности; однако же и он, благодаря усилиям ямщиков нас опрокинуть, не устоял и, свалившись в одну прекрасную ночь в канаву, треснул. Переехав в Перекопе через Днепр, мы засели с шестеркою лошадей в грязь и просидели бы в ней без сомнения, всю ночь, если бы один благодетельный хохол, ехавший порожняком, не взмилостивился над нами и не выпряг пару волов: круторогие дернули и вытянули разом и тарантас и голодную шестерку».
Наконец-то 12 ноября, в 12 часов утра, тарантас наших путешественников перевалил через последнюю гору, отделявшую их от осажденного города. Открывшаяся тут их взорам обширная панорама лазурного залива с окружающими возвышенностями и Корабельной слободой, раскинувшейся амфитеатром по горному скату, была так хороша, что они невольно было загляделись. Но, очнувшись от первого впечатления, они заторопили возницу, потому что там, в глубине этой живописной и мирной на вид картины, ожидали их помощи тысячи мучеников человеческой бойни.
Пирогову с его тремя спутниками были отведены две комнаты со сводами в нижнем этаже Северной батареи № 4 (куда им, впрочем, пришлось вскоре принять еще четырех товарищей — врачей). Сбыв только свою поклажу, даже не переодеваясь, Пирогов сел на казацкую лошадь и отправился в Дворянское собрание, обращенное в главный перевязочный пункт. То, что представилось здесь его глазам, привело его в ужас: последнее большое сражение было еще 24 октября — 18 дней назад; а более 2000 раненых лежали еще не разобранными, скученными на грязных, окровавленных матрацах.
В течение последующих 12 дней под треск бомб и ядер, Пирогов, не покладая рук с 8 часов утра до 6-ти вечера, делал одну операцию за другою. Три раза только за все эти дни переезжал он на ялике в город для осмотра других перевязочных пунктов. На одном из них, во время операции, через крышу влетела бомба и оторвала обе руки у оперируемого.
Получив между тем известие, что первая партия сестер милосердия должна прибыть на днях в Симферополь, Пирогов собрался туда 24 ноября. Проезда на колесах по размытой дождями дороге почти не было; поэтому он совершил этот переезд в 70 верст верхом, спугивая целые стаи орлов и коршунов-ягнятников с валявшихся в непролазной грязи полусгнивших остовов лошадей.
В Симферополе он застал такой же, если не больший еще хаос по вверенной ему медицинской части: лазареты и бараки (бывшие матросские казармы) и до 30-ти обывательских домов были переполнены без всякого разбора тысячами раненых, из которых многие лежали на голом полу в невозможно грязном белье. Одна партия больных оказалась в конюшне, где, за отсутствием свежей соломы для подстилки, старую солому высушивали и опять пускали в дело. Новые больные, несмотря на наступившие уже заморозки, привозились без тулупов на открытых арбах, а в дороге, как выяснилось, они ночевали или в нетопленных татарских саклях, или просто под открытым небом, голодая иногда по нескольку суток.
Со дня своего приезда Пирогов, в солдатской шинели и высоких мужицких сапогах, с утра раннего до сумерек объезжал с кавалькадой врачей все госпитальные пункты и неустанно работал ножом и бинтами.
В начале декабря прибыла первая партия сестер Крестовоздвиженской общины, числом до 30-ти, во главе с начальницею Стахович, и Пирогов распределил их тотчас по госпиталям. Помощь сестер оказалась настолько полезной, что уже через несколько дней, в письме к жене, он не мог ими нахвалиться.
Благодаря сестрам, наладив в Симферополе уход за больными, Пирогов поехал обратно в Севастополь. По пути остановившись на ночлег в Бахчисарае, он не упустил случая осмотреть там воспетый Пушкиным ханский дворец с фонтаном слез и гробницей Марии, около которых, несмотря на декабрь месяц, еще зеленел мирт, цвели дикие розы; затем завернул еще и в вырубленный в скале Успенский монастырь.
В Севастополе он снова отдался весь своему человеколюбивому делу.
С ноября месяца не было больших стычек с неприятелем, а потому и новый (1855) год можно было встретить с более легким сердцем. Один из сожителей Пирогова, доктор Калашников, раздобыл донской шипучки, заменившей дорогое шампанское. Не столько от бокала непривычного вина, сколько от табачного дыма товарищей-курильщиков (сам он не курил) и от жарко-натопленной печи, у Пирогова голова жестоко разболелась, Тем не менее на другое утро он в свой обычный час был уже в госпитале. Вернувшись оттуда, он только что собрался прилечь, как к нему является его бывший слушатель, молодой штаб-лекарь Одесского полка.
— А я ведь за вами, Николай Иваныч, прямо с позиции.
— Что там такое?
— Да вот полковой командир наш, полковник Скюдери, встречает Новый год и просит вас тоже пожаловать.
Пирогов поморщился.
— Я, милый мой, угорел, и голова у меня все еще не отошла…
— На холоду отойдет! Вашим отказом вы крепко обидите моего командира. Он ведь герой с простреленною грудью.
— Так-то так…
— Да и бывали ли вы когда сами на позициях?
— До сих пор не случилось.
— Ну, вот, теперь кстати и их увидите. Право, голубчик Николай Иваныч, поедемте! Сделайте это хоть для меня!
— Разве уж что для вас, — уступил Пирогов.
— Да где же наконец ваши позиции? — спрашивал он своего спутника, когда они, оба верхом, проехали уже верст пять за город.
— А вон, — указал штаб-лекарь на лежавшее перед ними, среди гор, и занесенное снегом пространство, на котором там и сям, подобно муравейникам, виднелись только кучки снега с стоящим около них под ружьем караулом.
— Ослеп я, что ли! — недоумевал Пирогов. — Хоть убейте, ни одного жилья не вижу.
— А эти снежные кучи? Это наши землянки, которые потом запорошило снегом.
— Вот что! Ваш полковой командир устроился в такой же землянке?
— А то как же. Да как еще устроился! Вы диву дадитесь.
В самом деле, когда они, спешившись, спустились под одну из снежных куч на глубину 2 1/2 аршина, там оказалось такое просторное помещение, что мог быть накрыт обеденный стол на 20 персон. Стены были задрапированы халатами; дневной свет проникал сверху сквозь проделанное в земле окно, а в углу топилась каменная печь.
— Милости просим, Николай Иваныч! Вас только и ждали, — любезно приветствовал Пирогова хозяин, полковник Скюдери, мужчина видный и бравый, с подвязанной рукой. — Вам, господа, я думаю, представлять Николая Ивановича Пирогова нечего; кто его не знает?
Один за другим стали подходить к Пирогову поздороваться: бригадный генерал, полковой священник, штаб-лекаря, штаб-офицеры…
До этого случая Пирогов изо дня в день кормился одним и тем же: борщом да отбивными котлетами. А здесь откуда что взялось: великолепная кулебяка, заливное, паштеты, дичь с трюфелями, желе… И все это обильно заливалось шампанским.
«И у нас еще жалуются на продовольствие армии! — мелькнуло в уме у Пирогова: — говорят, что солдатские сухари заплесневели, что водки по неделям не бывает… А тут хоть купайся в шампанском!»
«Благородный» напиток Шампаньи развязал языки у пирующих. К концу обеда пошли тосты: первый, разумеется, за государя. Полковые трубачи грянули народный гимн; хор певчих подхватил. Пили затем и за бригадного генерала, и за хозяина, и за Пирогова.
— А что, господа, не выйти ли нам на вольный воздух освежиться? — предложил бригадный, отдуваясь и отирая платком лоснящуюся лысину.
Другие, не менее его разгоряченные, с удовольствием также повылезли вслед за ним из душного подполья.
— Эй, музыканты! — крикнул разгулявшийся квартирмейстер: — плясовую!
За плясовой трубачей запевало певчих гаркнул:
— «Как у наших у ворот»…
И весь хор за ним.
Тут у полковой молодежи не стало уже удержу. Почин сделал штаб-лекарь, ученик Пирогова: заворотив полы своей солдатской шинели, с бараньей шапкой на затылке, он пустился в пляс по глубокой снежной грязи, — благо, сапоги были по колено.
За ним выскочил вперед молоденький прапорщик и, жеманно махая платком, поплыл вокруг плясуна деревенской молодицей-павой.
А зрители кругом поощряли их дружным хохотом и хлопками:
— Браво! брависсимо!
— Мазурку! — раздалась зычная команда хозяина-полковника.
Мигом составилось несколько пар, и началась такая бешеная мазурка, какой ни в Петербурге, ни в самой Варшаве, пожалуй, не видывали.
Пирогов никогда не танцевал; да и теперь, по своему солидному (44-х-летнему) возрасту, он не принял участия в танцах. Но, глядя на это беззаботное веселье других, он не мог сам не развеселиться и смеялся также от души.
Пример офицерства заразил и солдат.
— Валяй трепака! — крикнул кто-то из них, и начался самый лихой трепак.
«Вот русский человек! — думал Пирогов: — за горой гремят пушки; в траншеях роются и стреляют; а здесь идет бесшабашное веселье. От смерти, мол, нигде все равно не спрячешься. Чему быть, того не миновать».
— А что ваша голова, Николай Иваныч? — спросил ученик его, штаб-лекарь. — Прошла, небось?
— Прошла; как ветром сдуло.
— Что я вам говорил? Раз то хоть немножко передохнули; а завтра опять за работу.
И работа опять закипела; для непрерывных операций и перевязок просто рук не хватало. К счастью, прибыла тут в Севастополь ожидаемая с таким нетерпением вторая партия сестер Крестовоздвиженской общины, которая тотчас и была распределена по разным лазаретам и перевязочным пунктам. Еще в Симферополе убедившись, с какой беззаветною самоотверженностью сестры заботятся о всех нуждах больных, Пирогов поручил начальнице второй их партии, Бакуниной, независимо от ухода за больными, еще и нравственный надзор за госпитальными порядками. Бакунина, не менее энергичная, как и начальница первой партии, Стахович, в свою очередь, внушила своим сестрам строго наблюдать за выдачей больным пищи в положенной порции и непременно хорошего качества, за чистотой и сменой белья, за возможно частой переменой соломы в матрацах и вообще за тем, чтобы госпитальная администрация не отказывала больным ни в чем, на что они имеют безусловное право.
Бог ты мой, какую тут подняли бурю полковые командиры и все госпитальное начальство! До прибытия сестер Пирогов с этими господами еще кое-как ладил. Теперь и на сестер и на него самого посыпались со всех сторон ожесточенные жалобы. Но двое из безупречных и влиятельнейших генералов, Сакен и Васильчиков, приняли его сторону, и присмотр за госпиталями был сохранен за сестрами. А как необходимы были сестры, — лучше всего можно судить из следующих строк самого Пирогова:
«Вследствие нелепого приказания из Николаевской батарейной казармы, 500 тяжелораненых были высланы в такое место, где не существовало никакого приготовленного места для их принятия. До сих пор с леденящим ужасом вспоминаю эту непростительную небрежность нашей военной администрации. Над этим лагерем мучеников вдруг разразился ливень и промочил насквозь не только людей, но даже и все матрацы под ними. Несчастные так и валялись в грязных лужах. А когда кто-нибудь входил в эти палатки-лазареты, то все вопили о помощи, и со всех сторон громко раздавались раздирающие, пронзительные стоны и крики, и зубовный скрежет, и то особенное стучание зубами, от которого бьет дрожь. От 10-ти до 20-ти мертвых тел можно было находить меж ними каждый день. Здесь помощь и труд сестер оказались неоценимыми. Они трудились денно и нощно. В сырые ночи эти женщины еще дежурили и, несмотря на свое утомление, они не засыпали ни на минуту, и все это под мокрыми насквозь палатками. И все такие сверхчеловеческие усилия женщины переносили без малейшего ропота со спокойным самоотвержением и покорностью… Одна из них простая, но богопочтительная и прямодушная женщина, заведывала категорией тяжелораненых и безнадежных к излечению (солдаты звали ее «сестричкой»). Она умела трогательными молитвами у одра страдальцев успокаивать их мучительные томления. Другая сестра, также простая и необразованная, посещала наши форты и была известна как героиня. Она помогала раненым на бастионе, под самым огнем неприятельских пушек».
После этого вполне естественно, что почти все сестры поголовно, от непомерных трудов и лишении, переболели тифом, целые недели лежали при смерти, а некоторые и помирали. То же было и с большею частью врачей.
Пирогов, никогда не отличавшийся крепким здоровьем, также наконец не устоял. Работая с утра до ночи, он даже на ночь не раздевался и спал в солдатской шинели. Переменная погода и постоянные переезды доконали его. С середины февраля ему пришлось засесть у себя в четырех стенах. Благо, хоть ему с ассистентами отвели к тому времени новую квартиру — целый дом на Николаевской улице. Адмирал Нахимов предупредительно присылал больному книги из библиотеки, чтобы ему не слишком скучать без дела. Куриный бульон, куриные котлеты да тепловатые морские ванны в три недели поставили его опять на ноги.
А в госпиталях и на перевязочных пунктах не могли его просто дождаться. В одном госпитале его внимание обратили на матроса-героя, по прозванию Кошка, про которого рассказывали чудеса храбрости, которого навешали теперь сами великие князья. Как только затевалась какая-нибудь отчаянная вылазка, — Кошка непременно был уже тут как тут. Раз англичане, подобрав в своих траншеях двух убитых русских солдат, привязали их стоймя к столбам, под видом будто бы часовых.
— А что, братцы, — сообразил Кошка: — ведь это они нам только глаза отводят. Чем бы похоронить бедненьких, — гороховыми пугалами их еще выставляют! Бога в них нет, окаянных!
И вот, среди бела дня, он пополз на брюхе к неприятельской траншее.
— Да ты куда это Кошка, куда? — кричали ему вслед испуганные товарищи.
— Да нешто можно оставить там наших покойничков? — отвечал Кошка. — Хошь бы одного-то выручить.
И он дополз-таки до траншеи. А там, глядь, как на заказ, английские полотняные носилки. Отвязал он один труп, уложил на носилки, проделал ножом в носилках две дыры для рук, взвалил носилки с трупом на спину и — ползком опять назад. Как только завидели его англичане, и давай стрелять: паф да паф! А он под их выстрелами ползет себе и ползет, пока не добрался до своих — Ай да Кошка! — встретили его те со смехом. — Что, шкура цела?
— Целехонька, слава тебе, Господи! Покойничек, спасибо, охранил.
И точно: в самого Кошку не угодило ни одной пули; зато в труп попало целых шесть.
На одной вылазке, однако, и этому отчаянному храбрецу не повезло: штыком распороли ему живот; по счастью, не затронули кишек. И, хошь не хошь, пришлось ему таки-лечь в госпиталь.
С назначением нового главнокомандующего, князя Горчакова, Пирогову удалось наконец устроить правильный транспорт больных и установить госпитальные палатки на северной стороне города, более безопасной.
Светлое Христово Воскресенье прошло относительно спокойно. Но в понедельник, 29 марта, в 5 часов утра, весь Севастополь был разом поднят со сна оглушительным грохотом со всех неприятельских бастионов: началась бомбардировка осажденных из 1500 осадных орудий, и над городом огненными метеорами полетели бомбы и ракеты. Когда Пирогов с ассистентами прибежал на главный перевязочный пункт, в прежнем Дворянском собрании, туда несли уже на носилках раненых с оторванными руками и ногами.
Канонада не умолкала ни на минуту до 8-го апреля, и за все эти десять дней врачи и сестры почти не смыкали глаз. Каждый день делались на трех столах сотни ампутаций и других тяжелых операций; отнятые члены сваливались просто в ушаты. Домой к себе Пирогов ездил только обливаться холодной морской водой и обедать; все остальное время дня и ночи он проводил у раненых, лежавших сотнями в огромной танцевальной зале Дворянского собрания, оглашая его, вместо танцевальной музыки, раздирающими душу стонами. Не только лазареты и казармы, но и все частные дома были также переполнены тяжелоранеными. Для облегчения положения страдальцев Пирогов, его врачи и сестры делали все, что только от них лично зависело. Но все их старания не могли устранить общих ужасающих беспорядков.
«Вчера вечером перевезли разом 400, — жаловался Пирогов в письме от 22 апреля; — свалили в солдатские палатки, где едва сидеть можно, свалили людей без рук, без ног, со свежими ранами, на землю, на одни скверные тюфячишки. Сегодня дождь целый день; что с ними стало, Бог знает! Завтра поеду на ту сторону, так увижу».
Приехав на другой день на место, Пирогов увидел, что умирающие «лежат, как свиньи, в грязи с отрезанными ногами».
Самим Пироговым или под личным его наблюдением, при самых тяжелых условиях, было сделано в одном Севастополе 5000 ампутаций, не говоря о других операциях. Неокрепший еще после недавней болезни организм его вряд ли бы выдержал, не уступи Пирогов настояниям своих ассистентов — уехать на время отдохнуть в родной семье.
Два месяца с небольшим провел он на даче в Ораниенбауме, а в конце августа был уже снова в Симферополе, когда, после штурма Малахова кургана, Севастополь, в ночь на 28 августа, перешел в руки неприятелей. В одном Симферополе нашел он более 13000 раненых и больных. При нем же прибыл туда еще большой транспорт их на татарских арбах, сопровождаемый начальницей второй партии сестер Крестовоздвиженской общины, Бакуниной, которая от самого Севастополя шла по глубокой грязи пешком в высоких сапогах и бараньем тулупе. Поручив ей главный надзор за госпитальными порядками, Пирогов поспешил к Севастополю. Остановился он, разумеется, не в самом городе, занятом неприятелем, а в 6-ти верстах оттуда, в Бельбекской долине, где нашел пристанище в татарской сакле, отстоявшей на одну версту от госпитальных палаток.
Три месяца с лишком проработал Пирогов опять без устали в полевых лазаретах. Несмотря на постоянное противодействие военной администрации, ему удалось организовать правильную эвакуацию раненых и больных в Перекоп, Херсон, Николаев, благодаря, главным образом, помощи все тех же неутомимых, терпеливых сестер, являвшихся в глазах солдата, как бы их ангелами-хранителями.
Страшно и подумать, что сталось бы с этими тысячами и тысячами неповинных, жертв войны, не осени великую княгиню Елену Павловну счастливая мысль — к уходу за ранеными на месте военных действий привлечь и женщин, а всю организацию этого ухода и всего вообще госпитального дела вверить Пирогову. Среди истинных героев Крымской кампании, с точки зрения человечности, нашему великому хирургу принадлежит бесспорно первое место, и в немногих просветах той мрачной эпохи его имя светится яркой звездой. Вечная же ему память!
Конец.