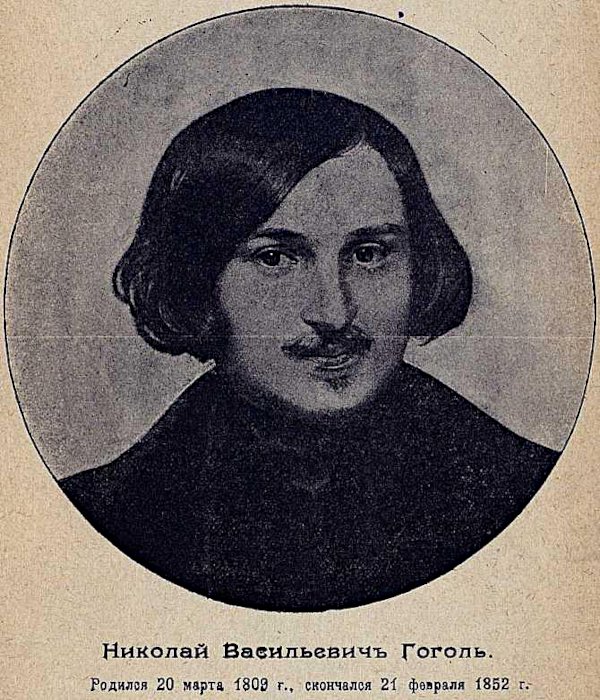Н. В. Гоголь.
Биографический очерк В. П. Авенариуса.
Издание Книжного Магазина П. В. Луковникова
Лештуков переулок, С.-ПЕТЕРБУРГ.
I. Предки и родители.
Род Гоголей принадлежит к старинному малороссийскому дворянству. В летописях упоминается казацкий гетман Остап Гоголь, который отличился в битве при Дрижиполе, а затем был и полномочным послом польским в Турции. Происходил ли, однако, от него по прямой линии Николай Васильевич Гоголь, — достоверных о том сведений не имеется. Одно не подлежит сомнению: что его дед, Афанасий Гоголь, состоя в польской шляхте, к своей родовой фамилии прибавил еще вторую, польскую, — Яновский, по имени своего отца, Яна Гоголя. Эту двойную фамилию, Гоголь-Яновский, носил вначале и наш писатель. Вторую половину её он отбросил только по переселении в Петербург. В письме своем к матери от 6-го февраля 1882 г. он просит адресовать ему на будущее время просто «Гоголь», «потому что кончик моей фамилии (прибавляет он шутливо), я не знаю, где делся. Может быть, кто-нибудь поднял его на большой дороге и носит как свою собственность».
Дед Николая Васильевича, Афанасий Янович т.е. Иванович) или Демьянович (как называли его обыкновенно), окончив курс киевской духовной семинарии, сперва учительствовал, потом находился на военной службе, на которой дослужился до чина полкового писаря (что соответствует чину майора), а остаток жизни провел помещиком в своем небольшом наследственном имении Яновщине (Миргородского повета, Полтавской губернии). В пору своего учительства он давал уроки девице Татьяне Семеновне Лизогуб, происходившей от Якова Лизогуба, генерал-фельдцейхмейстера Петра Великого. Молодые люди полюбили друг друга. Родители Татьяны Семеновны очень кичились своим знатным происхождением и ни за что не выдали бы дочери за бедного учителя. Зная это, учитель послал ученице в ореховой скорлупе записочку, в которой просил её руки и предлагал обвенчаться тайно. Та согласилась; когда же молодые возвратились из-под венца, родителям ничего не оставалось, как благословить их. Брак этот был идиллически счастлив и послужил затем их гениальному внуку благодарной темой для его «Старосветских помещиков».
Сын их, Василий Афанасьевич, записанный еще в самом раннем возрасте в военную службу, семилетним мальчиком был уже произведен (конечно, заочно) в корнеты. Для обучения наукам он был отдан отцом в ту же киевскую бурсу. Под влиянием господствовавшего тогда и в Малороссии романтизма, подростку-бурсаку приснился однажды вещий сон: будто бы Матерь Божия указала ему девочку-младенца, которая станет со временем его женою. Вскоре после того он, вместе с родителями, был в гостях у соседа их по имению, богача и важного сановника Трощинского; здесь-то в младенце-родственнице последнего, Машеньке Косяровской, он тотчас признал ту самую девочку, которая ему приснилась. Спустя 14 лет они действительно сочетались браком.
При жизни родителей Василий Афанасьевич, а тем менее его молоденькая жена, не имели никакого голоса в хозяйственных вопросах и жили себе припеваючи настоящими аркадскими пастушками. С кончиной же родителей, когда им пришлось самим окунуться в житейскую прозу, ни муж, ни жена не могли уже освоиться, как следовало с сельским хозяйством и до конца жизни оставались все теми же романтиками. Предоставив наблюдение за полевыми работами опытному приказчику, Василий Афанасьевич гораздо охотнее проводил время за хорошей книжкой в своем тенистом саду, где были у него «беседка мечтаний» и «грот дриад», а по вечерам раздавались соловьиные трели, или же прогуливался по соседней рощице «Яворовщине» (от росшего там дерева явора), переименованной им в «Долину спокойствия». Тем не менее, он отнюдь не был меланхоликом и нелюдимым; напротив того, он был всегда рад гостям и своими неистощимыми рассказами о старине, своими остроумными шутками умел занять, развеселить всякое общество. Ценил в нем эти качества и богатый сосед-родственник его Трощинский: заведя у себя домашний театр, он режиссерство поручил Василию Афанасьевичу, который в числе других веселых малороссийских пьес ставил и две своего собственного сочинения: «Собака-овца» и «Простак, или Хитрость женщины, перехитренная солдатом».
Жена его, Марья Ивановна, такая же идеалистка, в житейских делах была, пожалуй, еще менее его практична. У проезжих коробейников она закупала целые вороха разной дешевой, ненужной дряни, при всяком случае давала себя обманывать и обсчитывать, а по смерти Василия Афанасьевича, оставшись совсем беспомощной, целые часы проводила в молитве или в грустных мечтаниях над письмами покойного мужа, писанными ей еще до их женитьбы.
Таковы были родители нашего великого писателя-юмориста.
II. Детство и школьные годы.
(1809—1828 г.).
Родился Николай Васильевич Гоголь 20-го марта 1809 года. Так как он был первенцем, то мать в нем души не чаяла; а так как к тому же телосложения и здоровья он был слабого, то она его не в меру нежила и баловала. Вместе с тем, однако, она привила ему свою глубокую религиозность, сохранившуюся у него на всю жизнь.
Влияние отца сказалось более на литературном вкусе и фантазии мальчика. Когда, бывало, к ним в Васильевку (как переименовал Василий Афанасьевич по себе Яновщину) понаедут соседи-помещики, чтобы послушать опять занимательные рассказы хлебосольного хозяина, всех внимательнее слушал его маленький Никоша; если же отец заводил речь о малороссийской старине и запорожцах, то мальчугана никакими мерами нельзя было заставить идти спать, а ночью затем он только и бредил что о слышанном. Эти-то «вечера на хуторе» и положили начало тем двум сборникам рассказов, которые Николай Васильевич выпустил впоследствии под псевдонимом диканьского пасичника Рудого Нанька. Брал его отец иногда с собой и к Трощинскому. Здесь, при виде на сцене отцовских пьес, зародилась в будущем актере-любителе и драматурге первая страсть к театру.
Но вот Никоше минуло десять лет, надо было поместить его в учебное заведение. Отданный сперва в Полтавскую гимназию, он вскоре был переведен оттуда пансионером в Нежинскую (Черниговской губ.) «гимназию высших наук князя Безбородко». Болезненный, мечтательный и ленивый, он почти до самого окончания им курса мало преуспевал в науках. Так как при этом он был еще неряшлив, насмешлив и задорен, то у начальства гимназии он был всегда на довольно дурном счету {Вот несколько отрывков из журнала, веденного надзирателями Нежинского гимназического пансиона:
13-го декабря. (Такие-то и) Яновский за дурные слова стояли в углу.
Того же числа. Яновский за неопрятность стоял в углу.
19-го декабря. П-ча и Яновского за леность без обеда и в угле, пока не выучат свои уроки.
Того же числа. Яновского за упрямство и леность особенную — без чаю.
20-го декабря. (Такие-то и) Яновский — на хлеб и на воду во время обеда.
Того же числа. Н. Яновский, за то, что он занимался во время класса священника с игрушками, был, без чаю.}. Точно так же он не пользовался и расположением большинства товарищей, потому что в играх их почти не участвовал, между тем каждого передразнивал, наделял смешными прозвищами и не упускал случая сыграть над всяким какую-нибудь небезобидную шутку.
За всем тем он понемногу выдвинулся, обратил на себя внимание, благодаря унаследованной от отца наклонности к сочинительству и актерству. Первым литературным опытом его был шутливый акростих на одного товарища, остриженного под гребенку и прозванного за то «Расстригой-Спиридоном». Сам по себе акростих был очень плох и прошел бы незамеченным. Но автор начертал его на большом транспаранте под раскрашенным рисунком, изображавшим дервиша, которого стрижет рогатый и хвостатый цирюльник, и транспарант этот выставил в большой рекреационной зале. Добродушный старик-директор Орлай пожурил, конечно, шалуна, но не нашел нужным наказать. Тот, однако, не унимался и сочинил злую сатиру на жителей Нежина: «Нечто о Нежине, или Дуракам закон не писан». Сатира разошлась по городу, и к директору явилась с жалобой целая депутация от осмеянных горожан-греков. Не без труда отстояв перед депутацией своего питомца, Орлай затем хорошенько распушил последнего и взял с него обещание в стенах гимназии не упражняться более в подобных «глупостях».
Среди товарищей Гоголя было несколько очень даровитых, в том числе прославившиеся впоследствии писатель Кукольник и профессор Редкин. Кукольник, хорошо владевший стихом, уже на школьной скамье прослыл, как между товарищами, так и у профессоров, талантливым поэтом; а Редкин с двумя другими товарищами принялся за капитальный труд — разработку полного курса всеобщей истории по иностранным источникам. Гоголь чувствовавший в себе также склонность к сочинительству, не хотел отстать от них и начал издавать, один за другим, рукописные альманахи и журналы: «Северная Заря», «Метеор Литературы», «Звезда», в которых большая часть статей принадлежала ему самому. Так между воспитанниками сам собой составился литературный кружок, участники которого читали друг другу свои стихотворные и прозаические произведения, собираясь для этого в отдаленном уголку тенистого казенного сада на большой дерновой скамье, прозванной «Эрмитажем». Кстати заметим, впрочем, что со стороны преподавателя русской словесности начинающие авторы нимало не поощрялись: этот преподаватель, профессор Никольский, из «новейших» писателей признавал еще только старика Державина; поэзию же молодого Пушкина, которою восхищались воспитанники, считал литературною ересью. Тот же «эрмитажный» кружок, по предложению Гоголя, обзавелся, помимо казенной библиотеки, еще своей собственной, для которой книги и журналы выписывал из Москвы и Петербурга; библиотекарем же её выбрали самого Гоголя. Отличаясь и в ту пору уже чудачествами, наш библиотекарь придумал совершенно оригинальную меру, чтобы охранить порученные ему книги от грязных пальцев товарищей: перед тем как вручить кому-нибудь книгу, он надевал ему на все десять пальцев по бумажному, собственного изделия, наперстку. Однако мера эта не нашла сочувствия у читателей и не привилась.
По его же почину воспитанники затеяли любительские спектакли, на которых зрителями были, кроме товарищей и начальства, также родственники артистов и именитые горожане. Режиссерами были Кукольник и Гоголь. Сам Гоголь подвизался с большим успехом в старческих ролях обоего пола; особенно хорош был он в фонвизинском «Недоросле», в роли Простаковой.
Курс Нежинской гимназии «высших наук» был девятилетний: шесть низших классов отвечали общегимназическому курсу, три старших — университетскому, сообразно чему воспитанники старшего отделения так и назывались «студентами». В апреле 1825 г., перед самым переходом Гоголя в старшее отделение, из деревни пришло к нему известие о кончине отца. Хотя в последнее время Василий Афанасьевич постоянно похварывал, но роковая весть была для сына все-таки неожиданностью. Под первым впечатлением он едва не покусился на самоубийство; спасла его только глубокая вера в Промысел Божий и горячая любовь к бедной матери, оставшейся теперь без всякой опоры. После экзаменов приехав домой на каникулы уже студентом, он и словом и делом старался поддержать неутешную в её новых заботах; но, сам крайне непрактичный в житейских делах и совершенно неопытный в сельском хозяйстве, он принес ей пользы довольно мало. Возвратясь осенью опять в Нежин, он выслал матери в деревню составленные им самим планы для перестройки дома и затем нередко наделял ее письменными советами, которые, впрочем, по большей части оказывались на деле точно так же не удобоприменимыми.
Из своих однокурсников по гимназии Гоголь всего более дружил с Данилевским, которого знал еще с раннего детства; кроме того, он еще гимназистом очень сошелся со «студентом» Высоцким, который хотя и был двумя классами его старше, но находил удовольствие в беседах с таким же, как и сам он, «критиком». Вскоре по кончине отца, Гоголю пришлось разлучиться и с обоими друзьями: Данилевский перешел в московский университетский пансион, а Высоцкий, окончив курс, укатил в Петербург для поступления на государственную службу. Не имея теперь в Нежине никого, с кем бы поделиться своими сокровенными мыслями и чувствами, Гоголь замкнулся в себе и стал для окружающих еще непроницаемый; но добродушная насмешливость малоросса не давала заглушить себя, и он, для собственной потехи, играл и в жизни комедию, показывая себя людям не таким, каким он был на самом деле.
«Я почитаюсь загадкой для всех (откровенничал он в письме к матери); никто не разгадал меня совершенно. У вас почитают меня своенравным, каким-то несносным педантом, думающим, что он умнее всех, что он создан на другой лад от людей. Верите ли, что я внутренне сам смеялся над собой вместе с вами! Здесь меня называют смиренником, идеалом кротости и терпения. В одном месте я самый тихий, скромный, учтивый, в другом — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., в третьем — болтлив и докучлив до чрезвычайности, у иных — умен, у других — глуп».
Тонкая наблюдательность позволяла ему подмечать у ближних их слабые стороны; подлаживаясь под чужие взгляды, он умел вызывать всякого на откровенность, а потом, при случае, ставил его нарочно в комическое положение. Та же наблюдательность безотчетно подталкивала его изучать, кроме людей, своего круга, и простонародье. Так накоплялся у него постепенно тот богатый запас житейских наблюдений, который послужил ему впоследствии таким благодарным материалом для его несравненных литературных произведений.
Но на школьной скамье Гоголь, как многие из замечательных людей, не подозревал еще своего настоящего призвания. Своим «пробам пера» в рукописных альманахах и журналах он не придавал серьезного значения. Прилежно переписываясь со своим петербургским другом Высоцким, он мечтал лишь о том, чтобы, по примеру Высоцкого, сделаться чиновником.
«Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания (признавался он двоюродному брату своей матери, Петру Петровичу Косяровскому) я пламенел неугасаемою ревностью сделать жизнь свою нужной для блага государства, я кипел принести хотя малейшую пользу. Тревожные мысли, что я не буду мочь, что мне преградят дорогу, что не дадут возможности принесть ему малейшую пользу, бросали меня в глубокое уныние. Холодный пот проскакивал на лице моем при мысли, что, может быть, мне доведется погибнуть в пыли, не означив своего имени ни одним прекрасным делом; быть в мире и не означить своего существования — это было для меня ужасно. Я перебирал в уме все состязания, все должности в государстве и остановился на одном — на юстиции; я видел, что здесь работы будет более всего, что здесь только я могу быть благодетелен, здесь только я могу быть истинно полезен для человечества. Неправосудие, величайшее в свете несчастие, более всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни моей не утерять, не сделав блага…»
Двадцать лет спустя, в своих записках, он подтверждает то же:
«… В те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумываться о будущем я начал рано — в ту пору, когда все мои сверстники думали еще об играх), мысль о писательстве мне никогда не входила в ум, хотя мне всегда казалось, что я сделаюсь человеком известным, что меня ожидает просторный круг действий, и что я сделаю даже что-то для общего добра. Я думал просто, что я выслужусь, и все это доставит служба государственная».
До выпускного класса занимаясь науками лишь настолько, чтобы не отстать от товарищей, он последние полгода до выпуска занялся тем усерднее; но был выпущен все-таки не по первому, а по второму разряду — с чином 14-го класса. Теперь он мог «означить свое существование» на служебном поприще.
III. В поисках за призванием.
(1829—1831).
В мечтах своих будущий служака давно уже стремился в Петербург, который рисовался ему в самом розовом свете. Наконец, полгода после выпуска, в январе 1829 г., он попал туда; но — «Петербург мне показался вовсе не таким, как я думал (писал он матери). Я его воображал гораздо красивее, великолепнее, и слухи, которые распускали другие о нем, так же лживы».
В манившем его широком поле для гражданских подвигов ему пришлось еще более разочароваться. Старшего друга своего Высоцкого, который хоть отчасти мог бы облегчить ему первые шаги на тернистом пути жизни, он не застал уже в Петербурге; а захваченные им с собою рекомендательные письма к столичным сановникам ни к чему не послужили. Всё ограничилось любезными обещаниями; в молодом провинциале, ничем себя еще не заявившем, никто не нуждался.
Еще в Нежине он охотно и небезуспешно занимался рисованием; а потому, в ожидании какого-либо места, он стал ходить в академию художеств, чтобы снимать копии с картин знаменитых художников. Но покупателей для таких копий не находилось.
Между тем от небольшой суммы, взятой им с собой из деревни на первые расходы, ничего уже не осталось. О театре и других остальных удовольствиях нечего было и думать. Скрепя сердце, он сперва спустил на рынок кое-что из платья, чтобы как-нибудь прокормиться вместе со своим крепостным человеком Якимом, а потом решился просить маменьку выслать опять денег; до получения же их обходился без обеда, пробавляясь чаем с булкой.
Однако предпринять что-нибудь было все-таки необходимо. В Нежине он пописывал стишки, сочинил даже целую поэму в 18-ти картинах: «Ганц Кюхельгартен». В виде пробы, он послал в редакцию журнала «Сын Отечества» стихотворение «Италия», и — о, радость! — в одном из ближайших номеров журнала оно было напечатано. На беду, он из скромности скрылся в письме к редактору под псевдонимом «Алов» и не заикнулся о гонораре; требовать гонорар задним числом было немыслимо. Как же быть с поэмой? Ее, как крупную вещь, или совсем не примут (ведь этим господам редакторам давай имена, имена!), или же оценят в два двугривенных; а он сколько над нею трудился, сколько вложил в нее своих задушевных дум! Не проще ли всего издать ее на свой счет? Публика её наверное оценит…
И поэма сдана в цензуру, а потом и в типографию. В то же время было отправлено к матери новое письмо с просьбой прислать разных материалов для рассказов из малороссийского быта, а также обе комедии покойного отца для постановки их при случае на сцену.
Вот поэма и отпечатана, развезена по книжным магазинам. Но время было летнее, никто не интересовался новыми книгами. Один только «Московский Телеграф» отозвался о «Ганце», но отозвался так пренебрежительно, что бедный поэт поспешил, вместе с Якимом, отобрать свою поэму из всех книжных магазинов и сжечь.
В порыве отчаянья молодой автор решил бежать от своего позора за границу. Кстати же и доктора прописали ему морские купанья в Травемюнде близ Любека. Как на грех, мать прислала ему в это самое время крупную сумму для уплаты срочных процентов в ссудную казну, где была заложена Васильевка. Не отдавая себе отчета в своем поступке, он воспользовался этими деньгами, чтобы взять билет на пароход, отправлявшийся в Любек.
«Теперь только (писал он матери из Любека), когда я, находясь один посреди необозримых волн, узнал, что значит разлука с вами, моя неоцененная маменька, в эти торжественные, ужасные часы моей жизни, когда я бежал от самого себя, когда я старался забыть все окружавшее меня, — мысль: что я вам причиняю сим — тяжелым камнем налегла на душу, и напрасно старался я уверить самого себя, что я принужден был повиноваться воле Того, Который управляет нами свыше… Простите, милая, великодушная маменька, простите своему несчастному сыну… Продайте, ради Бога, продайте или заложите хоть все: я слово дал, что более не потребую от вас и не стану разорять вас…»
Закончив курс лечения, он сел на пароход и очутился снова у себя, на четвертом этаже в Столярном переулке.
Надо было наконец взяться за ум. В Нежине он ведь, по собственным его словам, «пламенел неугасимой ревностью сделать жизнь свою нужной для блага государства». Ничего не оставалось, как начать службу хотя бы без жалованья. Такая служба, действительно, нашлась в министерстве внутренних дел, но на первых порах ему, новичку, давали одну шаблонную работу, от которой он буквально задыхался. То ли дело присланные ему из деревни литературные материалы, от которых так и веяло вольной Украйной, милой, родной стариной! И в воображении его восставали и безбрежная зеленая степь с рассеянными на ней хуторами, и гурьба веселой сельской молодежи — паробков и дивчин — с их играми и песнями, и удальцы-казаки, и вся поэтическая чертовщина народных поверий и сказаний… Зародившиеся в голове его знакомые образы словно сами собой сплетались в связный рассказ; перо само собой забегало опять по бумаге.
И вот первый прозаический рассказ: «Басаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала», окончен и переписан, а там и снесен в редакцию «Отечественных Записок». Рассказ был одобрен и появился в февральской и мартовской книжках журнала 1830 г. Но редактор Свиньин сделал в нем некоторые существенные поправки, которые, по мнению самолюбивого автора, только испортили рассказ. Он заявил об этом редактору. Между ними произошел крупный разговор, и так как относительно гонорара у них ничего ранее не было обусловлено, то Свиньин не счел себя обязанным заплатить что-либо начинающему писателю, а тот, оскорбленный и огорченный, закаялся вообще заниматься писательством.
Оставался, казалось, один еще только исход — поступить на сцену. В комических ролях он ведь еще в Нежине имел большой успех; но трагики ценились выше, а потому лучше было сделаться трагиком. Таким образом, когда он предстал перед директором театров, князем Гагариным, то на вопрос последнего, какое он выбрал себе амплуа, он отвечал не задумываясь, что «героическое». Гагарин дал ему записку к инспектору театров Храповицкому, и тот заставил его, в присутствии трех актеров, прочитать по отрывку из «героических» ролей стихотворных трагедий: Озерова —
«Димитрий Донской» и Расина (в переводе графа Хвостова) — «Андромаха». Читать стихи Гоголь был не мастер, особенно стихи напыщенные, а тут еще оробел перед такими опытными судьями, и прочитал оба отрывка прескверно. Тогда ему предложили прочитать еще сцену из комедии Делавиня «Школа стариков»; но и эта пьеса была в стихах, и прочел он их немногим лучше. Удайся ему это чтение, — как знать? — не остался ли бы он навсегда актером, и не лишилась ли бы затем Россия великого писателя. Но проба, по счастью, не удалась, и ему пришлось отказаться от карьеры артиста.
Тут-то, когда и эта попытка его потерпела полную неудачу, судьба наконец сжалилась над ним. По протекции одного дальнего родственника (А. А. Трощинского), он был переведен в департамент уделов, хоть и не на штатную должность, но все же на определенный оклад (500 р. асс. в год). Начальником отделения у него оказался Вл. Ив. Панаев, который в досужие часы сам пописывал также в журналах. Получив от нового подчиненного оттиск «Басаврюка», Панаев, обладавший тонким эстетическим вкусом, тотчас подметил в этом небольшом рассказе проблески недюжинного, совершенно оригинального дарования. Несмотря на большое расстояние в чиновном мире между начальником отделения и простым «причисленным», Панаев навестил Гоголя на дому, чтобы поощрить его, как сотоварища по перу, продолжать свои литературные занятия, освободил его в департаменте от черной работы, а три месяца спустя (10-го июня 1830 г.) определил и на штатную должность помощника столоначальника, обеспечивавшую молодому писателю по крайней мере верный кусок хлеба, пока литература не дала бы ему лучшего заработка.
Призвание было найдено.
IV. На своей дороге.
(1831 — 1842).
С того самого дня, как Панаев одобрил его «Басаврюка», Гоголь воспрянул духом, стал крепнуть и телом. После службы, продолжавшейся до 3-х часов дня, он, отобедав, занимался еще с 5-ти до 7-ми час. вечера живописью в академии художеств; а потом отправлялся пить чай к семейным знакомым или же гулял по столичным окрестностям. Возвращаясь с этих прогулок в 12-м, а то и в 1-м часу ночи, он, однако, не ложился сейчас спать, а садился за письменный стол и давал волю своему вдохновению, которое со дня на день все более разыгрывалось. К началу зимы у него было готово уже несколько рассказов и очерков. С рекомендательным письмом какого-то знакомого он отнес их к поэту Жуковскому, который, как ему было известно, покровительствовал всем начинающим талантам. Жуковский встретил его с обычным радушием, но, не имея сам времени просмотреть довольно толстую рукопись молодого писателя, направил его, в свою очередь, к своему другу, литератору-педагогу, Плетневу. Внимательно прочитав рукопись, Плетнев сделал на её полях массу замечаний; по исправлении же её, в чем следовало, автором, мелкие статьи пристроил в разных журналах, а рассказы посоветовал выпустить отдельным сборником. Сборник свой Гоголь назвал «Вечерами на хуторе близ Диканьки», прикрывшись сам псевдонимом «пасичника Рудого Панька», от имени которого написал и бесподобное по юмору предисловие. Попечение Плетнева о Гоголе не ограничилось этим: чтобы избавить его от ненавистной ему канцелярской работы, он предоставил ему в Патриотическом институте (где был сам инспектором классов) уроки истории и, кроме того, отрекомендовал его учителем в два аристократические дома. Как оба — и Плетнев и Жуковский — ценили уже литературный талант Гоголя, видно из письма Плетнева (от 22 февраля 1831 г.) к Пушкину в Москву:
«Надобно познакомить тебя с молодым писателем, который обещает что-то очень хорошее… Жуковский от него в восторге. Я нетерпеливо желаю подвести его к тебе под благословение. Он любит науки только для них самих, и как художник готов для них подвергать себя всем лишениям. Это меня трогает и восхищает».
Личное знакомство Гоголя с Пушкиным завязалось на субботах Жуковского весной 1831 г., когда Пушкин, женившись в Москве, переехал с молодой женой на постоянное жительство в Петербург. Здесь-то, у Жуковского, Пушкин впервые услышал один из рассказов Гоголя в его собственном чтении. Читал Гоголь превосходно. Граф Соллогуб, автор «Тарантаса», в то время, еще безвестный студент Дерптского университета, следующим образом описывает это чтение:
«В 1881 г. летом я приехал на вакацию из Дерпта в Павловск. В Павловске жила моя бабушка и с нею вместе тетка моя А. И. Васильчикова (к сыну которой Гоголь нанялся учителем на лето)… У бабушки, как у всех тогдашних старушек, жили постоянно бедные дворянки, компаньонки, приживалки. Им-то по вечерам читал Гоголь свои первые произведения. Я шел однажды по коридору и услышал, что кто-то читает в ближней комнате. Я вошел из любопытства и нашел Гоголя посреди дамского домашнего ареопага. Александра Николаевна вязала чулок, Анна Антоновна хлопала глазами, Анна Николаевна, по обыкновению, оправляла напомаженные виски. Перед ними сидел Гоголь и читал про украинскую ночь. «Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы не знаете украинской ночи!» Кто не слыхал Гоголя, тот не знает вполне его произведений. Он придавал им особый колорит своим спокойствием, своим произношением, неуловимыми оттенками насмешливости и комизма, дрожавшими в его голосе и быстро пробегавшими по его оригинальному остроносому лицу, в то время как серые маленькие его глаза добродушно улыбались, и он встряхивал всегда падавшими ему на лоб волосами. Описывая украинскую ночь, он как будто переливал в душу впечатления летней свежести, синей, усеянной звездами выси, благоухания, душевного простора. Вдруг он остановился. «Да гопак не так танцуется!» Приживалки вскрикнули: «Отчего не так?» Они подумали, что Гоголь обращался к ним. Гоголь улыбнулся и продолжал монолог пьяного мужика. Признаюсь откровенно, я был поражен, уничтожен; мне хотелось взять его на руки, вынести его на свежий воздух, на настоящее его место».
Неудивительно, что в таком чтении прелестные сами по себе украинские рассказы Гоголя должны были привести в восхищение Пушкина, столь чуткого ко всему прекрасному. Наняв себе на лето дачу в Царском Селе, отстоящем от Павловска всего в 4-х верстах, Пушкин пригласил Гоголя бывать у него запросто; а так как и Жуковский, в качестве воспитателя великого князя-наследника (впоследствии императора Александра II), жил тогда в царскосельском дворце, то Гоголь очень часто навещал обоих поэтов из Павловска. Так уже в течение одного лета Пушкин успел оценить и полюбить Гоголя.
— Он будет русским Стерном, — говорил он с убеждением одной их общей знакомой (придворной фрейлине Россет): — он все видит, он умеет смеяться, а вместе с тем он грустен и заставит плакать. Не пройдет и десяти лет, как он станет первоклассным талантом.
Пушкин же раньше всех печатно приветствовал первый том «Вечеров на хуторе», выпущенный в свет осенью 1831 г.:
«Сейчас я прочел «Вечера близ Диканьки» (писал он в «Литературных Прибавлениях к Инвалиду»). Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без чопорности. А. местами какая поэзия! Какая чувствительность! Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Мне сказывали, что когда издатель вошел в типографию, где печатались «Вечера», то наборщики начали прыскать и фыркать, зажимая рот рукою. Фактор объяснил их веселость, признавшись ему, что наборщики помирали со смеху, набирая эту книгу. Мольер и Фильдинг, вероятно, были бы рады рассмешить своих наборщиков. Поздравляю публику с истинно-веселою книгою, а автору желаю сердечно дальнейших успехов».
По переезде с дачи в Петербург, Пушкин, несмотря на большую разность лет (ему минуло уже 32 года, Гоголю же всего 22), то и дело взбегал к нему на 4-й этаж и просиживал у него за полночь. Гениальность притягивалась гениальностью. Молодой юморист, с другими вообще несообщительный и скрытный, перед обожаемым им зрелым поэтом раскрывал свою душу нараспашку: отдавал ему на суд и свои научные недочеты, и свою дорожную записную книжку (от Полтавы до Петербурга), и свои будущие литературные замыслы, и, наконец, все свои новые работы. По совету Пушкина, он прочел теперь впервые множество классических произведений иностранных писателей, частью в переводе, частью в оригинале {В том числе следующия сочинения: «Дон-Кихота» Сервантеса, «Фауста» и «Вильгельма Мейстера» Гёте, «Натана Мудрого» и «Гамбургскую драматургию» Лессинга, драмы Шекспира, трагедии Расина и Корнеля, комедии Мольера, сказки Вольтера, басни Лафонтена, «Опыты» («Essais») Монтэня, «Мысли» Паскаля, «Персидския письма» Монтескье, «Характеры» Лабрюйера.}. Благодаря этому чтению и постоянному обмену мыслей с таким многосторонне образованным и необыкновенно умным человеком, как Пушкин, умственный кругозор Гоголя все более расширялся. Со своей стороны Пушкин не мог надивиться поразительной наблюдательности и совершенно своеобразному остроумию Гоголя, проявлявшемуся в каждой строке его мимолетных заметок и законченных рассказов. Как добросовестный учитель, поправляющий классные работы любимого ученика, Пушкин исправлял в этих рассказах все неправильности слога, ничуть, однако, не касаясь той самобытной оригинальности стиля, которая придает такую свежесть и прелесть всему, что выходило из-под пера Гоголя. Мало того: как щедрый богач, не считающий своих сокровищ, Пушкин уступил ему и два собственных своих сюжета, из которых Гоголь создал потом по-своему два таких бессмертных творения, как «Ревизор» и «Мертвые Души».
С легкой руки Пушкина, уже первый том «Вечеров на хуторе» был принят читающей публикой с таким живым интересом, что не прошло и четырех месяцев, как потребовалось новое издание.
В следующем (1832) году вышел из типографии второй том «Вечеров» и, благодаря помещенному в нем самому блестящему из этого цикла рассказов: «Ночь перед Рождеством», обратил на молодого автора еще большее внимание. Талант же его на этом не остановился, а продолжал расти. При выходе его сборника «Миргород» журнальная критика, в лице первоклассного ценителя — Белинского, приветствовала Гоголя уже как восходящее светило первой величины. Из четырех повестей «Миргорода» в двух: «Ссора Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем» и «Старосветские помещики» осмеивались отрицательные стороны мелких людей, пошлость людская.
«Если Гоголь часто и с умыслом подшучивает над своими героями (говорил Белинский), то без злобы, без ненависти; он понимает их ничтожность, но не сердится на нее; он даже как будто любуется ею, как любуется взрослый человек на игры детей, которые для него смешны своею наивностью, но которых он не имеет желания разделить. Но, тем не менее, это все-таки юмор, ибо не щадит ничтожества, не скрывает и не скрашивает его безобразия, ибо, пленяя изображением этого ничтожества, возбуждает к нему отвращение… Заставить нас принять живейшее участие в ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем, насмешить нас до слез глупостями, ничтожностью и юродством этих живых пасквилей на человечество — это удивительно; но заставить нас потом пожалеть об этих идиотах, пожалеть от всей души, заставить нас расстаться с ними с каким-то глубоко-грустным чувством, заставить нас воскликнуть вместе с собою: «Скучно на этом свете, господа!» — вот, вот оно, то божественное искусство, которое называется творчеством, вот он, тот художнический талант, для которого где жизнь, там и поэзия!
«И таковы все его повести: сначала смешно, потом грустно. И такова жизнь наша: сначала смешно, потом грустно! Сколько тут поэзии, сколько философии, сколько истины!… »
В остальных двух повестях того же сборника: «Вий» и «Тарас Бульба» с не меньшей художественностью выведены два типа стародавней Малороссии бурсаки и казаки. «Тарас Бульба», по мнению Белинского, «дивная эпопея, написанная кистью смелой и широкой, резкий очерк героической жизни младенствующего народа, огромная картина в тесных рамках, достойная Гоголя». В заключение своего восторженного отзыва, Белинский превозносит и лиризм Гоголя:
«Описывает ли он бедную мать, это существо высокое и страждущее, это воплощение святого чувства любви, — сколько тоски, грусти и любви в его описании! Описывает ли он юную красоту, — сколько упоения, восторга в его описании! Описывает ли он красоту своей родной, своей возлюбленной Малороссии, — это сын, ласкающийся к обожаемой матери! Помните ли вы его описание безбрежных степей днепровских? Какая широкая, размашистая кисть! Какой разгул чувства! Какая роскошь и простота в этом описании! Чёрт вас возьми, степи, как вы хороши у Гоголя!..»
Пушкин точно так же особенно восхищался «Тарасом Бульбой», находя, что «в этой эпопее можно было бы найти материал для прекрасной драмы».
Похвалы передовой критики и лучших писателей вскружили голову молодому автору. Занимаясь урывками историей, особенно своей родной Малороссии, он задумал написать историю средних веков в восьми томах, — что ему, вовсе неподготовленному к такому ученому труду, было, разумеется, не под силу. Но, по протекции Жуковского и Пушкина, ему все-таки удалось (в 1834 г.) сделаться адъюнкт-профессором петербургского университета по всеобщей истории. Вступительная лекция была блестяща, дальнейшие же — сухи и скучны. Очевидно, настоящим призванием его была не строгая наука, а изящная словесность.
Сам прекрасный комик, Гоголь не мог, конечно, не приняться также за комедию. Первой попыткой его в этом роде была комедия «женихи», переименованная потом (в 1842 г.) в «женитьбу». Задумана была им еще большая комедия «Владимир 3-й степени», написаны были из неё и отдельные сцены; но, по цензурным условиям, все ограничилось этими сценами («Утро делового человека», «Отрывок», «Тяжба» и «Лакейская»). Сатирическая жилка не давала, однако, покоя Гоголю, и он принялся одновременно за разработку обоих, предоставленных ему Пушкиным, благодарных сюжетов: одного для комедии, другого для романа. Комедия «Ревизор» была напечатана весною 1836 г. и тогда же поставлена на сцену. Значительная часть посетителей петербургских театров принадлежит, как известно, к миру чиновников. Большинство их, ошеломленное небывало-бесцеремонным изобличением темных сторон провинциального чиновничества, было возмущено. Почти все зрители невольно хохотали, но сквозь этот хохот раздавались негодующие голоса:
— Клевета! Фарс!
Крики эти были подхвачены и враждебными Гоголю газетами и журналами.
Что комедия затронула очень чувствительную струну общества, доказывалось уже тем, что, несмотря на апрель месяц, когда театры обыкновенно пустуют, всякий петербуржец хотел видеть «Ревизора», и следовавшие одно за другим представления давали полные сборы. Друзья осыпали Гоголя восторженными похвалами; Белинский находил, что в комедии его «нет сцен лучших, потому что нет худших, но все превосходны, как необходимые части, художественно образующие собой единое целое». Но Гоголь, присутствуя при первом представлении своей пьесы, убедился лично, как недоброжелательно отнеслась к ней большая часть публики, и упал духом; пристрастные же нападки врагов-журналистов окончательно его доконали. Впоследствии, в своем «Театральном разъезде», он излил всю ту горечь, которая накопилась у него на сердце от незаслуженных нареканий на его гениальную комедию.
«Еду за границу (писал он 10 мая 1886 г. историку Погодину): там размыкаю ту тоску, которую наносят мне ежедневно мои соотечественники… Пророку нет славы в отечестве… Частное принимают за общее, случай за правило! Выведи на сцену двух-трех плутов, — тысяча честных людей сердится, говорит: мы не плуты…»
И вот он за границей. Расстроенные нервы его нуждались в полном покое, а слабый от природы организм и расшатанное петербургским климатом здоровье — в серьезном лечении. Осенью 1836 г. в Веве, на Женевском озере, он настолько поправился, что письма его в Россию дышали уже чисто «гоголевским» юмором; а когда, с наступлением в Швейцарии холодов, он переехал в Париж, то к нему возвратилась и прежняя охота к литературной работе, и он со свежими силами засел опять за свой роман «Мертвые Души», первые главы которого, в черновом виде, читал еще в Петербурге Пушкину.
«Бог простер здесь надо мною Свое покровительство и сделал чудо (писал он в ноябре из Парижа): указал мне квартиру на солнце, с печкой — и я блаженствую. Снова весел; «Мертвые» текут живо, свежее и бодрее, чем в Веве, и мне совершенно кажется, как будто я в России: передо мною всё наше, наши помещики, наши чиновники, наши мужики, наши избы, словом — вся православная Русь… Не представится ли вам каких-нибудь казусов, могущих случиться при покупке мертвых душ? Это была бы для меня славная вещь… Сообщите об этом Пушкину: авось либо и он найдет что-нибудь со своей стороны…»
Среди такого-то светлого настроения, как громом поразила его весть о внезапной смерти его кумира и вдохновителя — Пушкина.
«Моя утрата всех больше (писал он Погодину 30-го марта 1837 г.). Ты скорбишь как русский, как писатель, а я… я и сотой доли не могу выразить своей скорби. Моя жизнь, моё высшее наслаждение умерло с ним. Мои светлые минуты моей жизни были минуты, в которые я творил. Когда я творил, я видел перед собою только Пушкина. Ничто мне были все толки, я плевал на презренную чернь, мне дорого было его вечное и непреложное слово. Ничего не предпринимал, ничего не писал я без его совета. Всё, что есть у меня хорошего, всем этим я обязан ему. И теперешний труд мой («Мертвые Души») есть его создание. Он взял с меня клятву, чтобы я писал, и ни одна строка его (т.е. труда) не писалась без того, чтобы он не являлся в то время очам моим. Я тешил себя мыслью, как будет доволен он; угадывал, что будет нравиться ему, — и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нет впереди. Что труд мой?.. »
И, верный своему обету, он, несмотря на удручавшие дух его телесные немощи, не поддававшиеся уже лечению, окончил-таки к 1840 году первую часть «Мертвых Душ», под которыми следовало разуметь не одни только умершие «крепостные души», но и самих действующих лиц романа, лишенных, в смысле христианства, живой души. Когда новая книга в 1842 г. появилась в свет, не было ни одного образованного человека в России, кто бы не поспешил прочесть ее. Толкам и пересудам по её поводу, как шесть лет перед тем по поводу «Ревизора», не было конца. Белинский же прямо высказался, что «автор сделал такой великий шаг, что всё, доселе им написанное, кажется слабым и бледным». После «апатического уныния, овладевшего литературой (со смерти Пушкина и Лермонтова) » вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной и тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстной, нервистой, кровной любовью к плодовитому зерну русской жизни; творение необъятно-художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, и, в то же время, глубокое по мысли, социальное, общественное и историческое…»
V. Конец творчества.
(1842—1852).
О последнем периоде жизни Гоголя, не давшем русской литературе ничего ценного, много распространяться не станем. Кроме хронических телесных страданий, действовавших разрушительно на его слабый вообще организм и на общее состояние его духа, немало угнетало Гоголя и стесненное материальное положение. Ради своего здоровья живя теперь по большей части в Италии, а именно в Риме, он расходовал на себя значительно более, чем выручалось от продажи его сочинений. Правда, что государем было пожаловано ему на лечение за границей 9 тысяч рублей (по 8 тысячи на 3 года). Тем не менее он не мог обходиться без займов у своих московских и петербургских друзей в счет будущих доходов от новых литературных произведений. Но год проходил за годом, а нового ничего не создавалось. Один же из его друзей-заимодавцев неотступно требовал от него, в уплату займа, скорейшей присылки каких бы то ни было статей для издаваемого им журнала. В ответ на это у Гоголя вырвался такой вопль:
«Боже, если бы вы знали, как тягостно для меня это требование, какую вдруг нагнало оно на меня тоску и мучительное состояние! Теперь на один миг оторваться мыслью от святого своего труда — для меня уже беда… Но так и быть, я отыщу какой-нибудь старый лоскуток и просижу над переправкой и окончательной отделкой его, Боже, может быть, две-три недели, ибо он будет почти насильственный, и всякую минуту я буду помнить бесплодную великость своей жертвы, — преступную свою жертву. Нет, клянусь, грех, тяжкий грех отвлекать меня! Я умер для всего мелочного; и для презренного ли журнального пошлого занятия я должен совершать не прощаемые преступления?»
Этим «святым трудом» было продолжение «Мертвых Душ», в котором должны были выступить уже не темные, а светлые стороны русской жизни, не отрицательные, а положительные типы. Тем временем не в меру усердные московские друзья объявили в «Москвитянине», не спросясь даже автора, что будто бы второй том » Мертвых Душ » уже готов, а вскоре будет окончен и третий. Гоголь был вне себя; друзья же не переставали осаждать его просьбами — дать хоть то, что у него есть.
«Никакая сила (отвечал им Гоголь) не может заставить меня произвести, а тем более выдать вещь, которой незрелость и слабость я вижу сам».
На запросы об авторских его замыслах он уклонялся входить в подробности.
«Представь себе архитектора, строящего здание, которое все загромождено и заставлено у него лесом (писал он в виде оправдания): чего стоит ему снимать леса и показывать неоконченную работу, как будто бы кирпич вчерне и первое пришедшее в голову слово в силах рассказать о фасаде, который в голове архитектора».
Такая медленность в работе, составлявшей теперь единственную цель его жизни, объясняется, во-первых, прогрессивным угасанием творчества вследствие расслабления всего организма, а во-вторых — непосильной задачей: обладая необычайным даром схватывать налету отрицательные, смешные стороны людей, он, по самому складу своего ума, а также по недостаточно основательному образованию, был решительно неспособен составить вполне ясное и полное представление о положительной стороне русской жизни.
Под влиянием упадка телесных сил и творчества, его все чаще занимали теперь мысли о своем душевном спасении и о загробной жизни. Временное утешение он находил только в молитве. Все написанное уже им, чем так восхищались истинные любители изящной словесности, представлялось ему плодом мирской суеты, недостойным верующего человека. Напечатанного и разошедшегося в продаже вернуть было уже невозможно; но в рукописи у него имелось продолжение «Мертвых Душ», и вот эту-то рукопись он, в припадке уныния, сжег в 1845 г. В письмах к друзьям он выступил проповедником мудрой и праведной жизни. Но, чтобы быть таковым, ему недоставало глубокого философского ума и всесторонней житейской, опытности. Он был рожден художником, а не мудрецом. Когда поэтому он выпустил в свет (в 1847 г.) отдельной книгой свою «Переписку с друзьями», книга была встречена не похвалами, как ожидал он, а взрывом негодования врагов и друзей. Белинский, когда-то первый провозгласивший его образцовым художником слова, разгромил его «Переписку» беспощаднее всех. Такой прием, по его мнению, лучшего его творения поверг Гоголя в полное отчаяние. Чтобы найти опять душевное равновесие, он совершил (в 1848 г.) поездку в Иерусалим ко Гробу Господню. Возвратившись оттуда, он принялся снова за вторую часть «Мертвых Душ»; но работа подвигалась туго и самого его по-прежнему не удовлетворяла. Точно в предчувствии близкого конца, он переехал из Италии на постоянное жительство в Москву. Поселился он у своего почитателя и покровителя, графа А. И. Толстого, который окружил его всевозможным комфортом, чтобы житейская проза не мешала его поэтическому вдохновению; но вдохновение навсегда уже отлетело! На сделанный ему раз Толстым вопрос, отчего он несколько месяцев ничего уже не пишет, Гоголь грустно улыбнулся:
— Да! как странно устроен человек: дай ему все, что он хочет, для полного удобства жизни, — тут-то он и не станет ничего делать… Со мною был такой случай: ехал я раз между городками Джансоно и Альбано, в июле месяце. Среди дороги, на бугре, стоит жалкий трактир, с бильярдом в главной комнате, где вечно гремят шары и слышится разговор на разных языках. Все проезжающие мимо непременно тут останавливаются, особенно в жар. Остановился и я. В то время я писал первый том «Мертвых Душ», и эта тетрадь со мною не расставалась. Не знаю почему, именно в ту минуту, когда я вошел в этот трактир, захотелось мне писать. Я велел дать мне столик, уселся в угол, достал портфель и, под громом катаемых шаров, при невероятном шуме, беготне прислуги, в дыму, в душной атмосфере, забылся удивительным сном и написал целую главу, не сходя с места. Я считаю эти строки одними из самых вдохновенных. Я редко писал с таким одушевлением. А вот теперь никто кругом меня не стучит, и не жарко, и не дымно…»
Однажды Гоголь разбудил ночью слугу, велел затопить печь и стал бросать в огонь какие-то тетради. Как потом оказалось, то были вновь обработанные им для печати одиннадцать глав второй части «Мертвых Душ». По отзыву некоторых лиц, слышавших эти главы в чтении, они были очень хороши. Совсем случайно уцелела черновая первых пяти глав, по которой теперь только и можно судить о второй части «Мертвых Душ».
Скончался Гоголь 21-го февраля 1852 года и похоронен в московском Даниловом монастыре. Так как для литературы он угас уже за десять лет до своей физической смерти, то смерть его не произвела, конечно, на общество того потрясающего впечатления, как 15 лет перед тем смерть Пушкина. Но, в уважение к погибшему гению, вся образованная Москва собралась провожать его гроб, который, до самой могилы, на расстоянии 6—7-ми верст, несли на руках.
В настоящее время относительно значения Гоголя для родной литературы не существует двух разных мнений: как Пушкин пробудил в русском обществе любовь и уважение к изящному печатному слову и таким образом начал собою в нашей литературе совершенно новый период, — точно так же и Гоголь обозначил в ней новую эру, так как первый стал писать настоящим народным языком, простым и в то же время образным, и своей трезвой прозой, своим добродушным «смехом сквозь слезы» внес в литературу реальное направление, ярко, но правдиво изображающее будничную жизнь, как она есть. Более полувека уже тело его покоится в земле, но создания его гения по-прежнему живы, восхищают людей всех возрастов, и никто уже не оспаривает его первенствующего значения в нашей литературе, как великого юмориста и родоначальника наших позднейших прозаиков-художников.