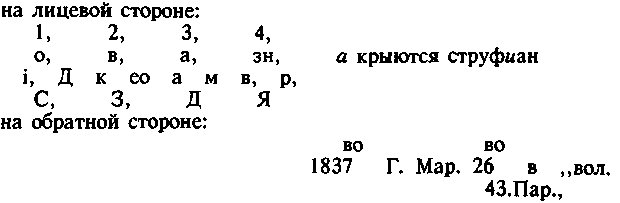В. В. Барятинский
Царственный мистик
(Александр I — Федор Кузьмич)
Скончался ли император Александр I в Таганроге 19 ноября 1825 г. или же, предоставив хоронить чье-то чужое тело, таинственно удалился от мира и окончил жизнь в образе старца Федора Кузьмича в окрестностях Томска 20 января 1864 г.?
Разрешение этого вопроса — хотя бы приблизительное разрешение — составляет цель этой книги.
Вот схема, которой я буду стараться придерживаться:
1) Имел ли император Александр I намерение оставить трон и удалиться от мира?
2) Если он имел это намерение, то привел ли он его в исполнение в бытность свою в Таганроге или же скончался, не выполнив своего намерения?
3) Если он скрылся из Таганрога, а не умер, то можно ли отождествлять с его личностью личность сибирского старца Федора Кузьмича?
I
Во время поездки по России в 1817 г., в день отъезда своего из Киева, 8 сентября, за обедом, когда разговор коснулся обязанностей людей различных состояний, «равно и монархов», Александр I неожиданно произнес твердым голосом:
«Quand quelqu’un a l’honneur d’être à la tête d’une nation comme la nôtre, il doit au moment du danger être le premiera l’affronter. Il ne doit rester à sa place qu’aussi longtemps que ses forces physiques le lui permettent… Passé ce temps, il faut qu’il se retire».
(Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в минуту опасности первый идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют. По прошествии этого срока он должен удалиться.)
«При этих словах, — пишет любимый флигель-адъютант императора Михайловский-Данилевский, — на устах государя явилась улыбка выразительная», и он продолжал:
«Quand à moi, je me porte bien à présent, mais dans dix ou quinze ans, quand j’aurai 50 ans, alors…»
(Что касается меня, — я пока чувствую себя хорошо, но через 10 или 15 лет, когда мне будет 50 лет…)
«Тут, — продолжает Михайловский-Данилевский, — несколько присутствующих прервали императора и, как не трудно догадаться, уверяли, что и в 60 лет он будет здоров и свеж… Неужели, подумал я, государь питает в душе своей мысль об отречении от престола, приведенную в исполнение Диоклетианом и Карлом Пятым? Как бы то ни было, но сии слова Александра должны принадлежать истории».
Месяц спустя император был в Москве и присутствовал на закладке храма на Воробьевых горах в память отступления наполеоновской армии из Москвы. Накануне этого дня он имел беседу с инициатором проекта, академиком Карлом Лаврентьевичем Витбергом, и, между прочим, сказал: «Конечно, я не могу надеяться что-либо видеть при себе».
Н. К. Шильдер, цитируя эти слова в т. IV своего известного труда «Император Александр I» (стр. 80), добавляет:
«Этим словам суждено было, к сожалению, осуществиться. Мало того, после кончины государя все это грандиозное предприятие рушилось, не оставив по себе и следов, а творец его А. (К?) Л. Витберг, был сослан в Вятку».
Позволю себе и я сделать краткое добавление: императору Александру было в то время 40 лет; он отличался превосходным здоровьем, и — при всей медленности производства работ, особенно художественных, в России, — мог бы надеяться «видеть что-либо при себе».
Воздерживаюсь от дальнейших толкований и продолжаю. Летом 1819 г. в Красном Селе, после смотра воинской части (2 бригады 1-й гвард. пехотной дивизии), находившейся под командой великого князя Николая Павловича, император Александр I обедал у своего брата.
По поводу этого обеда мы находим следующие строки в записках великой княгини (впоследствии императрицы) Александры Феодоровны, супруги Николая Павловича.
«Ce fut à Krasnoie, l’été 1819, q’un jour l’Empereur Alexandre ayant dîné chez nous, s’assit entre nous deux et causant familièrement, changea tout à coup de ton et devenant très sérieux il commenèa en termes suivants à peu prés à nous dire qu’il avait été très satisfait ce matin de la manière dont son frère s’acquittait de son commandement militaire, qu’il se rejouissait doublement de voir Nicolas remplir bien ses devoirs, puisque sur lui reposerait un jour un grand poids, qu’il le regardait comme son remplaèant et cela beaucoup plus tôt qu’on ne pouvait présumer, puisque cela arriverait de son vivant. Nous étions assis comme deux statues, les yeux ouverts, la bouche muette. L’Empereur continua: vous semblez étonnés, mais sachez que mon frère Constantin, qui ne s’est jamais soucié du trône est plus que jamais décidé à y renoncer formellement en faisant passer ses droits sur son frère Nicolas et ses descendants. Pour moi même je suis décidé à me défaire de mes fonctions et à me retirer du monde. L’Europe a plus que jamais besoin de souverains jeunes et dans toute l’énergie de leur force; pour moi je ne suis plus ce que j’ai été, et je crois de mon devoir de me retirer à temps… Nous voyant prêts à sanglotter, il tâcha de nous consoler, de nous rassurer, nous disant que cela n’arriverait pas incessament, que des années se passeraient avant qu’il mette son projet en execution».
(Это было в Красном Селе, летом 1819 г., когда однажды император Александр, пообедав у нас, сел между нами двумя и, беседуя интимно, внезапно изменил тон, стал очень серьезным и начал приблизительно в следующих выражениях высказывать нам, что он остался очень доволен, как утром его брат справился с порученным ему командованием; что он вдвойне рад тому, что Николай хорошо исполняет свои обязанности, так как на нем когда-нибудь будет лежать большая ответственность, что он видит в нем своего преемника и что это случится гораздо раньше, чем можно предполагать, т. к. то случится еще при его жизни. Мы сидели как два изваяния, с раскрытыми глазами и замкнутыми устами. Император продолжал: вы удивлены, но знайте же, что мой брат Константин, который никогда не интересовался престолом, решился тверже, чем когда-либо, отказаться от него официально и передать свои права своему брату Николаю и его потомству… Что касается меня, я решил сложить с себя мои обязанности и удалиться от мира. Европа более чем когда-либо нуждается в монархах молодых и в расцвете сил и энергии; я уже не тот, каким был, и считаю своим долгом удалиться вовремя… Увидав, что мы готовы разрыдаться, он старался нас утешить, ободрить, говоря, что все это случится не сейчас, что пройдут еще годы, прежде чем он приведет свой замысел в исполнение.)
Об этом же знаменательном разговоре мы находим в книге барона М. А. Корфа «Восшествие на престол императора Николая Павловича», следующие строки, заимствованные из записок самого императора Николая I.
«Минута переворота, так вас устрашившего, — сказал он (Александр I), — еще не наступила; до нее, быть может, пройдет еще лет десять, а моя цель теперь была только та, чтобы вы заблаговременно приучили себя к мысли о непреложно и неизбежно ожидающей вас будущности».
В том же 1819 г., осенью, в бытность свою в Варшаве, Александр I сказал своему брату, великому князю Константину Павловичу, наместнику царства Польского:
«— Я должен сказать тебе, брат, что я хочу абдикировать; я устал и не в силах сносит тягость правительства; я предупреждаю тебя для того, чтоб ты подумал, что тебе надобно будет делать в сем случае.
Цесаревич (Константин Павлович) ответил:
— Тогда я буду просить у вас место второго камердинера вашего; я буду служить вам, и, ежели нужно, чистить вам сапоги. Когда бы я это теперь сделал, то почли бы подлостью, но когда вы будете не на престоле, я докажу преданность мою к вам, как благодетелю моему.
При сих словах, — говорил великий князь Константин Павлович, — государь поцеловал меня так крепко, как еще никогда в 45 лет нашей жизни он меня не целовал.
— Когда придет время абдикировать, — сказал в заключение Александр, — то я тебе дам знать, и ты мысли свои напиши матушке» (императрице Марии Феодоровне).
Вышеприведенный разговор Александра с цесаревичем взят из рукописного журнала Михайловского-Данилевского со слов самого великого князя Константина Павловича (1829 г.).
В январе 1824 г. император заболел рожистым воспалением на левой ноге, и болезнь приняла было серьезный оборот. Подробное описание этого происшествия мы находим в «Воспоминаниях» доктора Дм. Клим. Тарасова, который вместе с лейб-медиком баронетом Як. Вас. Виллие пользовал больного. Не могу не остановиться на странном противоречии, встречающемся по этому поводу в «Воспоминаниях» д-ра Тарасова.
«Когда я доложил, — пишет он, — все это баронету Виллие, он крайне встревожился и сказал: «Боже сохрани, если это перейдет в антонов». Опасение его было справедливо, ибо рожа сосредоточилась на середине берца, в том самом месте, где нога в последний раз была ушиблена копытом лошади на маневрах в Брест-Литовске».
Между тем упоминаемый Тарасовым случай на маневрах рассказывается Н. К. Шильдером так:
«…19 сентября (1 октября) на маневрах случилось прискорбное происшествие. Во время проезда императора Александра по фронту польской кавалерии один полковник, по требованию государя, подъехал к нему для получения приказания; когда же он поворотил свою лошадь, она лягнула и подковой задней ноги ударила императора в правое берцо». (Шильдер, т. 4, стр. 283.)
Иначе говоря, Тарасов ошибается: рожистое воспаление было на левой ноге, а ушиб лошадиным копытом — на правой. Я отмечаю этот факт как не имеющий отношения к разбираемому нами теперь вопросу, потому что нам придется встретиться с ним позже.
«Как-то после того, — пишет Шильдер, — как государь оправился от своей болезни, он сказал Васильчикову, что дешево отделался от нее (qu’il l’avait échappé belle).
Васильчиков возразил ему, что весь город принимает участие в его болезни. «Те, которые меня любят?» (Ceux qui m’aiment) — возразил император. — «Все», — отвечал Васильчиков. — «По крайней мере, мне приятно верить этому, — сказал Александр, — но в сущности я не был бы недоволен сбросить с себя бремя короны, страшно тяготящей меня». (J’aime du moins à le croire, mais je n’aurais pas été fâché au fond de me débarasser de ce fardeau de la couronne qui me pèse terriblement).
Приведем еще одну выдержку из сочинения того же историка:
«Весною 1825 года приехал в Петербург принц Оранский, которому император Александр поверил свое намерение сойти с престола и удалиться в частную жизнь. Принц ужаснулся и старался отклонить государя от подобного намерения. Но Александр остался при своем мнении, и старания принца не привели к желаемой цели; ему не удалось поколебать намерения государя». (Шильдер, т. 4, стр. 350.)
Попутно Шильдер упоминает о загадочном молчании, которое Александр I хранил до конца относительно отречения от престола цесаревича Константина Павловича.
Отречение это формально состоялось 14 января 1822 г., когда Константин Павлович, в бытность свою в Петербурге, прислал императору письмо:
«Не чувствую в себе ни тех дарований, ни тех сил, ни того духа, чтоб быть когда бы то ни было возведену на то достоинство, к которому по рождению моему могу иметь право, осмеливаюсь просить Вашего Императорского Величества передать сие право тому, кому оно принадлежит после меня, и тем самым утвердить навсегда непоколебимое положение нашего государства».
Только около трех недель спустя (2 февраля), Александр ответил коротким письмом:
«Любезнейший брат. С должным вниманием читал я письмо ваше. Умев всегда ценить возвышенные чувства вашей доброй души, сие письмо меня не удивило. Оно мне дало новое доказательство искренней любви вашей к государству и попечения о непоколебимом спокойствии оного. По вашему желанию предъявил я письмо сие любезнейшей родительнице нашей. Она его читала с тем же, как и я, чувством признательности к почтенным побуждениям, вас руководившим. Нам обоим остается, уважив причины, вами изъявленные, дать полную свободу вам следовать непоколебимому решению вашему, прося всемогущего Бога, дабы он благословил последствия столь чистейших намерений».
«На этом, — пишет Шильдер, — пока дело остановилось. Только в 1823 году император Александр, томимый предчувствием близкой кончины, пожелал облечь силою закона семейное распоряжение, условленное им с цесаревичем».
Как же «облек силою закона» это «распоряжение» Александр?
Никак.
Лишь летом 1823 г. император, «томимый (как загадочно выражается Н. К. Шильдер) предчувствием близкой кончины», поручает митрополиту Филарету составить манифест о назначении великого князя Николая Павловича престолонаследником и запечатывает этот манифест в конверт, на котором собственноручно делает надпись: «Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде всякого другого действия».
Затем Александр отдает этот важнейший документ митрополиту Филарету и приказывает положить его без всякой огласки в ковчег государственных актов в Успенском соборе.
Филарет весьма правильно изумился подобной таинственности: как согласовать восшествие на престол, вероятнее всего могущее произойти в Петербурге, с манифестом, тайно хранящимся в Москве. По его совету копии манифеста были направлены в Государственный Совет, Синод и Сенат.
Нельзя не согласиться с Шильдером, а за ним и с другими исследователями занимающего нас вопроса, что поведение императора Александра в этом деле было очень загадочно.
Г. Василич, автор «Легенды о старце Кузьмиче и Александре I», весьма прозрачно намекает по этому поводу на состояние, близкое к психическому расстройству, и приводит в подтверждение своего взгляда слова современников о том, что государь находился «как бы в каком-то душевном затмении», которое Меттерних в своих записках назвал «утомлением жизнью».
Мне кажется, что психического расстройства в том смысле, в каком предполагает г. Василич, не было; об этом свидетельствует все дальнейшее поведение Александра вплоть до таганрогской катастрофы; все же эти «душевные затмения», «утомления жизнью», так же как и беседы и совместные моления с квакерами, увлечение пресловутым архимандритом Фотием (предшественником современного нам иеромонаха Илиодора) — вполне гармонируют с постепенно все более укреплявшимся в душе императора намерением удалиться от мира под влиянием все более охватывающего его мистицизма.
Обнародование манифеста о передаче права престолонаследия Николаю Павловичу являлось крупным шагом, весьма решительным, и немудрено, что император Александр, не отличавшийся особой силой воли, призадумался, заколебался. Люди, подобные ему, часто совершенно неожиданно совершают изумительный по смелости поступок, то, что французы называют «coup de tête», бросаются, так сказать, «головой в пропасть», но обнаруживают робость, когда им нужно сделать серьезный, но промежуточный шаг по направлению к этой пропасти. Как мы видели, он не скрывал своего намерения «удалиться от мира»; даже наоборот, он упорно год за годом подтверждал свое решение, словно с целью подбодрить самого себя на последний шаг, как это часто делают люди со слабой волей; но высказывал он это намерение только родственникам и близким друзьям. Опубликование же манифеста о престолонаследии, вероятно, представлялось ему чем-то вроде пролога к своему собственному всенародному отречению.
Тут кстати будет упомянуть о том, что в конце манифеста митрополит Филарет написал: «Чаем непреемственного царствия на небесах». Александр подчеркнул эту фразу в представленном ему черновике, и князь А. Н. Голицын заменил ее словами «о принятии души нашей, по неизреченному Его милосердию, в Царствие Его Вечное».
Это очень характерно.
Теперь, прежде чем закончить перечень указаний на желание императора Александра I отречься от престола, мне кажется необходимым обратить особое внимание на следующие строки из дневника императрицы Александры Феодоровны, супруги императора Николая I.
Эти строки писаны 15 августа 1826 г. во время коронации в Москве; их приводит великий князь Николай Михайлович на стр. 40 своего труда «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Козьмича»:
«Gewiss werde ich beim Anblick des Volkes denken wie der Selige Kaiser einst sagte, als er von seiner Abdankung sprach: «et comme je me rejouirai quand je vous verrai passer et que moi dans la foule je vous crierai hourrah, en remuant mon bonnet dans les airs». Ich wollte ihn immer prügeln, wenn er mir so etwas sagte». (Наверно, при виде народа я буду думать о том, как покойный император, говоря нам однажды о своем отречении, сказал: «Как я буду радоваться, когда я увижу вас проезжающими мимо меня, и я, потерянный в толпе, буду кричать вам «ура»…)
Нужно признаться, что великий князь Николай Михайлович, знаток александровской эпохи и убежденный противник «Легенды о Кузьмиче», выказал большое мужество и беспристрастие, поместив в своем труде вышеприведенные строки, которые даже Шильдер, его оппонент, по тем или иным причинам, не упоминает.
Итак — «имел ли император Александр I намерение оставить трон и удалиться от мира?»
На этот вопрос можно вполне утвердительно, с полным беспристрастием ответить: да, безусловно, он имел намерение отречься от престола и удалиться от мира.
Когда созрело в его душе это решение — как знать? Во всяком случае, он открыто об этом высказался еще в сентябре 1817 г., и это не было минутным увлечением, красивою мечтою. Нет, он настойчиво повторяет упоминание об этом намерении: в 1819 г. летом — великому князю Николаю Павловичу, осенью — великому князю Константину Павловичу; в 1822 г. — более чем странно держит себя в вопросе о престолонаследии; в 1824-м говорит Васильчикову, что был бы рад избавиться от гнетущей его короны и, наконец, весной 1825 г. всего только за несколько месяцев до таганрогской катастрофы, подтверждает принцу Оранскому свое решение, решение, которое никакие доводы принца не могут поколебать.
Обратим также внимание на эпизод с манифестом о престолонаследии; сопоставим даты и некоторые подробности.
1819 г. (осень). Александр сообщает цесаревичу Константину о своем намерении «абдикировать» и прибавляет: «…Когда придет время, …я дам тебе знать, и ты мысли свои напиши к матушке».
На это цесаревич не отвечает желанием «абдикировать» в свою очередь от принадлежащих ему прав на престол, а только в льстивых — искренно или неискренно, это не играет роли — словах указывает, что в случае отречения Александра он попросит дать ему «должность его второго камердинера». Эти слова, несомненно, дают понять, что Константин Павлович был настолько испуган перспективой вступить на престол при таких неслыханных еще в истории России обстоятельствах, как самовольное отречение царствующего государя, что он — Константин Павлович — при таких обстоятельствах отказался бы унаследовать престол.
Затем проходит год. Ни Александр, ни Константин не возбуждают разговоров, устных или письменных, на тему об отречении. Мало того, Константин Павлович вступает в морганатический брак с Иоанной Грудзинской; его молодая супруга получает от императора титул княгини Лович. Казалось бы, вот момент, когда Константин Павлович мог известить своего державного брата о своем намерении отречься от принадлежащих ему прав на престол. Он этого не делает. Проходит еще два года. Цесаревич внезапно приезжает в Петербург и —
1822 г. (14 января) находясь в Петербурге (и, следовательно ежедневно видаясь или имея возможность видаться с императором), пишет ему письмо о желании своем отречься от права престолонаследия.
И Александр только три недели спустя отвечает ему коротким, спокойным письмом, содержание которого в переводе на современный язык можно было бы исчерпать фразой: «К сведению принято».
В этом же ответном письме император пишет: «По вашему желанию предъявил я письмо сие любезнейшей родительнице нашей», чего нельзя не сопоставить с вышеприведенной фразой Александра, когда он впервые сообщил цесаревичу о своем намерении оставить трон: «Когда придет время абдикировать, то я тебе дам знать, и ты мысли свои напиши к матушке».
Что же случилось? Невольно приходит на ум, что Александр сообщил брату о том, что он намерен в ближайшем будущем «абдикировать». Это единственно возможное объяснение, которое, вероятно, допускал и Шильдер, облекая его в загадочную форму — «томимый предчувствием близкой кончины». Надо полагать, что Александр, по тем или иным причинам, внезапно почувствовал известный прилив энергии, силы привести в исполнение свою мечту «удалиться от мира» и известил брата. А Константин Павлович, перепуганный неожиданной перспективой вступить на престол при живом императоре, поспешил, в свою очередь, отречься, упустив из виду, страдая сам болезнью воли, что Александр мог еще снова изменить свое решение, или по крайней мере отсрочить приведение его в исполнение.
Отметим еще, что приведенный нами выше разговор в Красном Селе (по запискам великой княгини, впоследствии — императрицы Александры Феодоровны) имел место в июне 1819 г., т. е. за несколько месяцев до беседы императора с цесаревичем в Варшаве. Из этого следует заключить, что Константин Павлович еще и раньше подумывал об отречении, но не облекал свое намерение в официальную форму, почему император, вероятно, и сказал ему, сообщая о своем собственном намерении отречься: «…предупреждаю тебя для того, чтобы ты подумал, что тебе надобно будет сделать в сем случае».
Еще одно слово, прежде чем окончить эту главу.
Прошу читателя обратить внимание на то обстоятельство, что как император Александр, так и цесаревич Константин Павлович, как в разговорах, так и в письмах своих, касающихся отречения от престола, настойчиво упоминают о своей матери, императрице Марии Феодоровне, которая, казалось бы, никакого отношения к делу не могла иметь, по крайней мере, официально.
Подчеркиваю эту на вид незначащую подробность, т. к. нам придется в дальнейшем вернуться к ней, так же как и к упомянутому противоречию в дневнике доктора Тарасова касательно ушиба, полученного Александром I во время маневров в царстве Польском.
II
Несомненно, очень заманчиво придерживаться мысли, что русский император привел в исполнение давно лелеянную им мечту оставить трон, власть и потеряться среди ста миллионов своих собственных подданных, руководимый исключительно желанием возвысить таким подвигом свою душу, ответить на ее сокровенные запросы, стать «живым трупом».
Но мы в данном случае имеем дело с исторической проблемой, которую стараемся по мере возможности разрешить; тут нет места красивым сказкам, легендам, преданиям; нужно суммировать не мечты, а факты.
И я буду придерживаться, повторяю, только фактов, документов.
Отъезд императора Александра I в Таганрог был, как известно, вызван советом врачей, которые нашли необходимым для здоровья его супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны, пребывание на юге в течение зимы. Нельзя по этому поводу не согласиться с замечанием, сделанным князем П. М. Волконским, генерал-адъютантом и другом Александра I, в письме его к А. А. Закревскому (14 августа 1825 г.): «Не понимаю, как доктора могли избрать такое место, как бы в России других мест лучше сего нет».
В самом деле — почему Таганрог?
Шильдер пишет (т. 4, стр. 349), что доктора «указывали на Италию, Южную Францию или Южную Россию», причем, надо полагать, они вряд ли, говоря о Южной России, имели в виду побережье Азовского моря, славящееся и поныне своими ветрами, снежными заносами, стужами, мало соответствующими признакам итальянской или южно-французской зимы. Скорее всего, доктора, упоминая о Южной России, могли подразумевать южное побережье Крыма или, если уж так необходимо было избрать какой-либо крупный город, — Одессу. Я думаю, что не дам слишком большого хода фантазии, если допущу мысль, что Таганрог был избран самим Александром I, посетившим этот город еще в мае 1818 г.
Как бы то ни было, но решено было провести зиму в Таганроге, и когда решение это было окончательно принято, император обнаружил какую-то странную суетливость, отменив смотр войскам 2-й армии в Белой Церкви, назначенный на осень, он поручает князю Волконскому, только что возвратившемуся из Парижа с коронации Карла X, сопровождать императрицу и 1 сентября уезжает из Петербурга, всего только за два дня до отъезда самой императрицы. В течение всего пути он нигде не останавливается, кроме как для отдыха, отменяет все военные смотры, парады, маневры. Его сопровождают только начальник главного штаба генерал-адъютант барон Дибич, доктора лейб-медик Виллие и Тарасов, и вагенмейстер полк. Соломка, четыре обер-офицера и прислуга.
При каких же обстоятельствах совершился его отъезд из столицы?
«При совершенно исключительных обстоятельствах», как справедливо замечает г. Василич.
Незадолго перед своим отъездом (см. «Восшествие на престол императора Николая Павловича» барона М. А. Корфа) на замечание князя Голицына о неудобстве сохранять в тайне перед продолжительным путешествием такие документы, как акт о престолонаследии, Александр ответил: «Положимся на Бога: он устроит все лучше нас, слабых смертных».
Собственно говоря, трудно определить, что более странно: слова ли императора или замечание Голицына, вызвавшее эти слова. Император поручил Голицыну привести в порядок бумаги, хранившиеся в его кабинете; происходило это в присутствии императора. Почему Голицын заговорил о «престолонаследии»? Александр I постоянно отлучался из столицы и на краткие, и на продолжительные сроки. Почему именно этот отъезд вызвал замечание — весьма, впрочем, справедливое — министра духовных дел.
Но это, впрочем, так сказать, — пролог к отъезду. Перехожу к описанию самого отъезда, которое я целиком заимствую у Шильдера (т. 4, стр. 352—355):
«1 сентября император Александр покинул свою столицу уже навсегда; ночная тишина и мрак царствовали над городом, когда он выехал один, без всякой свиты, из каменноостровского дворца. В 4 часа с четвертью пополуночи коляска, запряженная тройкой, остановилась у монастырских ворот Невской лавры. Здесь ожидали государя, предупрежденные о его посещении, митрополит Серафим, архимандриты в полном облачении и вся братия. Александр в фуражке, шинели и сюртуке, без шпаги, поспешно вышел из коляски, приложился к кресту, был окроплен святою водою, принял благословение от митрополита и, приказав затворить за собою ворота, направился в соборную церковь. Монашествующие пели тропарь: «Спаси, Господи, люди Твоя». Войдя в собор, государь остановился перед ракою святого Александра Невского, и началось молебствие…
Когда наступило время чтения Св. Евангелия, император, приблизившись к митрополиту, сказал: «Положите мне Евангелие на голову», и с сими словами, стал на колени под Евангелие.
По окончании молебна государь возложил три земных поклона перед мощами благоверного князя, приложился к его образу и раскланялся с бывшими при молебствии… Вышедши из собора, митрополит Серафим сказал государю:
— Ваше величество, не угодно ли пожаловать ко мне в келью?
— Очень хорошо, — отвечал император, — только не надолго; я уже и так полчаса по маршруту промешкал.
Тогда все провожавшие повернули от собора к дому митрополита и вошли в залу. Государь с Серафимом удалились в гостиную…»
Затем Шильдер рассказывает о том, что митрополит представил государю схимника, «достопочтенного отца Алексея», который просил его удостоить и его келью своим посещением, и что император принял это приглашение.
Когда дверь кельи отворилась, мрачная картина представилась глазам государя: пол и все стены до половины были обиты черным сукном; с левой стороны у стены виднелось большое распятие с предстоящими Богоматерью и евангелистом Иоанном; у другой стены кельи находилась черная длинная деревянная скамейка; лампада, горевшая перед иконами, тускло освещала печальное жилище схимника. При входе императора схимник пал перед распятием и в то же время, обратясь к своему высокому гостю, сказал: «Государь, молись». Александр положил три земных поклона, а схимник, взявши крест, прочел отпуск и осенил государя. По окончании молитвы… продолжая разговаривать вполголоса с митрополитом, государь спросил его: «Все ли здесь имущество схимника? Где он спит? Я не вижу постели». — «Спит он, — отвечал митрополит, — на том же полу, перед сим самым распятием, пред которым молится».
«Схимник, вслушиваясь в слова эти, встал и сказал: «Нет, государь, и у меня есть постель, пойдем, я покажу тебе ее». С этими словами он повел императора за перегородку в своей келье, где представилось поразительное для государя зрелище: на столе стоял черный гроб, в котором лежала схима, свечи и все относящееся к погребению. «Смотри, — сказал схимник, — вот постель моя, и не моя только, а постель всех нас: в нее все мы, государь, ляжем и будем спать долго».
Молча, погруженный в размышление, стоял монарх несколько времени. Когда государь отошел от гроба, то схимник обратился к нему со следующими словами: «Государь, я человек старый и многое видел на свете; благоволи выслушать слова мои. До великой чумы в Москве нравы были чище, народ набожнее, но после чумы нравы испортились; в 1812 г. наступило время исправления и набожности: но по окончании войны сей нравы еще более испортились. Ты — государь наш и должен бдеть над нравами. Ты сын православной церкви и должен любить и охранять ее. Так хочет Господь Бог наш».
Выслушав эти слова, Александр обратился к митрополиту и сказал ему: «Многие длинные и красноречивые речи слышал я, но ни одна так мне не понравилась, как краткие слова сего старца. Жалею, — сказал он потом схимнику, — что я давно с тобою не познакомился», и обещал посещать его. Затем, приняв от него благословение, вышел из кельи с митрополитом…
Садясь в коляску, он поднял к небу глаза, наполненные слезами, и, обратясь еще раз к митрополиту и братии, сказал: «Помолитесь обо мне и жене моей». Лаврою до самых ворот он ехал с открытою головою, часто оборачиваясь, кланялся и крестился, смотря на собор.
Итак, мрачная келья, открытый гроб со всеми принадлежностями похорон были последними впечатлениями, вынесенными императором Александром при расставании со столицею. Перед выездом из Петербурга государь остановился у заставы, привстал в коляске и, обратившись назад, в задумчивости несколько минут глядел на город, как бы прощаясь с ним. Было ли то грустное предчувствие, навеянное встречею со схимником, была ли то твердая решимость не возвращаться более императором — кто может решить этот загадочный вопрос?»
Так излагает в своей «Истории Александра I» H. К. Шильдер поистине драматическую сцену прощания императора со своей столицей, причем приводит (т. 4; стр. 482, прим. 399) и источники, на основании которых он обрисовал эту сцену. Источники эти следующие:
1) «Последние дни жизни императора Александра I». Издано Заикиным. С.-Петербург, 1827.
2) «Taganrog ou les derniers jours d’Alexandre I». Traduit du russe par D. Priklonskoy. St. Petersbourg, 1834.
3) «Таганрог или подробное описание болезни и кончины императора Александра I», составленное Н. Данилевским. Москва, 1828.
4) «Дух венценосных супругов, в Бозе почивающих императора Александра I и императрицы Елисаветы». Сочинение Николая Данилевского. Москва, 1829.
5) «Граф Блудов и его время» (Царствование императора Александра I) Евг. Ковалевского. С.-Петербург, 1866.
Тут же считаю нужным привести дословно и прим. 398:
«Иностранные историки повествуют, что будто бы император Александр служил перед отъездом панихиду в Невской Лавре. Неудивительно, что, не зная порядков и смысла нашего богослужения, они перепутали напутственный молебен с панихидой. Но нельзя не удивляться, что Богданович в своей истории Александра I… нашел возможным повторить подобную басню».
Это последнее примечание очень характерно для Н. К. Шильдера, маститого историка, который в своей «Истории Александра I» был вынужден лавировать между официальной «правдой» и той правдой, которую он, как ученый, исследователь эпохи, в душе своей считал «настоящей» правдой. Шильдер, как прямой честный человек, не обладал искусством лавировать, и потому, когда он чувствовал, что наступает момент лавировать, он делал это очень неумело и «садился на мель». В самом деле, может ли выдержать мало-мальски серьезную критику его вышеприведенное примечание 398.
Кто присутствовал при таинственном богослужении в Александро-Невской лавре в ночь 1 сентября 1825 года? Митрополит, архимандриты и братия; никого из свиты, никого из светских людей и тем более — никого из «иностранцев», которые могли бы «перепутать напутственный молебен с панихидой»; хотя, кстати сказать, как бы иноверец или иностранец ни был невежествен в православных обрядах, вряд ли могло прийти ему в голову, что при отъезде монарха в путешествие служат панихиду (messe de morts), a не молебен (Те Deum).
С чьих же слов могли иностранные историки и наш русский Богданович напечатать в своих сочинениях, что служилась именно панихида, а не молебен? Только со слов присутствующих, конечно. Но ведь эти присутствовавшие были духовные православные лица; не могли же эти лица не различить панихиду от молебна! А Богданович, русский, православный, разве он не исправил бы ошибки своих иностранных коллег, если бы у него не было положительных данных, что служилась именно панихида, а не молебен. Наконец, самый факт, что Александр, часто уезжавший из Петербурга на продолжительные сроки и по религиозности своей всегда напутствовавший свои отъезды молебнами в присутствии близких людей и свиты, — на этот раз приехал в лавру далеко за полночь совсем один и по приезде велел запереть за собой ворота, — разве этот факт не указывает, на то, что в лавре в эту ночь происходило что-то необычное? Разве не достойно внимания также то обстоятельство, что он приехал без шпаги, без этого символа братоубийства, и затем за все время своего путешествия в Таганрог повсюду отменил воинские смотры?
Все это очень странно, и нельзя не повторить еще раз слова г. Василича, что отъезд Александра из Петербурга происходил «при совершенно исключительных обстоятельствах».
Поэтому отнесемся с исключительным же вниманием к обстоятельствам, сопровождавшим приезд императора Александра в Таганрог и его пребывание на юге вплоть до рокового дня 19 ноября.
Он приехал в Таганрог 13 сентября.
Лейб-медик Виллие пишет в своем дневнике за это число: «Nous arrivâmes à Taganrog où finit la première partie du voyage». И затем под чертой ставит слово «finis».
По этому поводу Шильдер пишет (т. 4, стр. 355):
«В то время он, конечно, не подозревал того пророческого значения, которое заключало в себе это слово. Первая часть была и последнею».
Не могу не признаться, что на меня вышеприведенные слова Виллие производят несколько иное впечатление.
Виллие, по имеющимся данным, знал более или менее недурно французский язык, хотя и владел им далеко не в совершенстве. В оставленных им записках попадаются подчас очень грубые ошибки. Но, приглядевшись к стилю Виллие, меня в цитированной выше фразе удивляет глагольная форма «arrivâmes». Она наводит на мысль, что дневник этот был писан post factum, т. к., если бы Виллие записывал свои впечатления день за днем, то он, конечно, употребил форму «nous sommes arrivés». Собственно, и слово «finit» (…la première partie и т. д.) тоже производит впечатление скорее формы passé défini, хотя по тексту Шильдера над вторым «i» стоит точка, а не «accent circonflexe» Cî).
Если допустить, что Виллие писал «задним числом», тогда станет понятным и показавшееся Шильдеру «пророческим» слово под чертой — «finis». Иначе почему бы Виллие его написал, так и всю фразу «…la première partie de notre voyage?» Ведь в день приезда в Таганрог не было никаких предположений о дальнейших путешествиях, о последующих «parties de voyage». Напротив, Александр занялся исключительно устройством и убранством дома, расставлял мебель, вбивал гвозди для картин, приводил в порядок городской сад; заботился о возможном комфорте для императрицы в ожидании ее приезда.
Приезд этот состоялся 23 сентября, и по этому поводу Шильдер пишет: «Замечательно, что императрица, которой слабое здоровье и изнурение сил едва позволяли в Петербурге сделать самое ничтожное движение, по прибытии в Таганрог довольно бодро сама, без помощи, вышла из экипажа и вступила в церковь под руку с императором».
Вообще здоровье императрицы Елизаветы Алексеевны с приездом ее в Таганрог начало быстро поправляться: «через несколько дней она окрепла и физически и морально». Объяснение этого быстрого поправления — неожиданного после долгого и утомительного переезда — некоторые историки видят в том, что «государь окружил ее самою нежною заботливостью, предупреждал ее малейшие желания и старался доставлять ей возможные развлечения, стремясь к одной цели, чтоб пребывание ее в этом городе сделать по мере сил приятнейшим. Таганрогское уединение возобновило между ними прежние узы, ослабленные на первых порах рассеянною молодостью, а потом заботами государственными» (Шильдер, т. 4, стр. 356).
Это объяснение очень трогательно, но не очень удовлетворительно. Оно было бы таковым, если бы императрица страдала неврастенией, а не тяжелым физическим недугом, да и то «несколько дней» вряд ли могли бы и в таком случае оказать значительное влияние на ее здоровье. Это — странность, на которую нельзя не обратить внимания, так же, как и на вышеприведенные слова Шильдера о том, что императрица, которая едва могла двигаться в бытность свою в Петербурге, оказалась довольно сильной и здоровой при приезде в Таганрог, несмотря на двадцатидневный переезд. Отметим попутно, что здоровье ее не ухудшилось и впоследствии, вплоть до отъезда ее из Таганрога в апреле 1826 г., т. е. пять месяцев спустя после рокового 19 ноября.
Я не делаю никаких комментариев, а подчеркиваю только некоторые факты, какими бы ничтожными они ни оказались, т. к. самый предмет разбираемого нами вопроса настолько затуманен, что исследователю приходится бродить почти впотьмах и потому внимательно и осторожно нащупывать каждый встречающийся на его пути камешек.
Итак — с приездом императрицы в скромном таганрогском дворце началась тихая, спокойная жизнь. Состав двора пополнился следующими лицами: генерал-адъютант князь П. М. Волконский, статс-секретарь Лонгинов, камер-фрейлины — княжна В. М. Волконская и Е. П. Валуева, лейб-медик Стоффреген, доктора Добберт и Рейнгольд, придворный аптекарь Протт и две камер-юнгферы.
«Государь ежедневно гулял пешком по городу; в обращении он был необыкновенно доступен. По-видимому, Александр казался покоен духом и весел, несмотря на это его мучили подозрения…» (Шильдер, т. 4, стр. 358). Какие подозрения? Найдя в сухаре камешек, он велел расследовать, что это такое и как это могло случиться. Это обстоятельство совершенно незначительное, и я привел его только потому, что не хотел оборвать цитату на словах «покоен и весел», дабы не быть заподозренным в тенденциозном подборе цитат. Император Александр вообще страдал подозрительностью, развившейся в нем параллельно с глухотой.
Таганрогская идиллия продолжалась недолго. Александром скоро опять овладела свойственная ему «охота к перемене мест», и он уехал сперва в землю Войска Донского на пять дней (с 11 по 15 октября), а затем в Крым по просьбе новороссийского генерал-губернатора графа (впоследствии светлейшего князя) М. С. Воронцова.
Накануне отъезда в Крым произошел следующий случай, о котором я упоминаю только потому, что о нем, так сказать, «принято» упоминать, описывая поездку императора Александра по Крыму.
Цитирую по книге великого князя Николая Михайловича («Легенда о кончине императора Александра I», стр. 13):
«Это было пополудни в 4-м часу, в сие время нашла туча и сделалось очень темно. Государь приказал камердинеру подать свечки; между тем, как небо прояснилось, сделалось по-прежнему светло и солнце, камердинер осмелился подойти и доложить: «Не прикажете ли, ваше величество, свечи принять?» Государь спросил: «Для чего? — «Для того, государь, что по-русски со свечьми днем писать нехорошо». — «Разве в этом что заключается? Скажи правду, верно, ты думаешь сказать, что, увидев с улицы свечи, подумают, что здесь покойник?» — Так, государь, по замечанию русских». — «Ну, когда так, — сказал государь, — то возьми свечи».
Великий князь Николай Михайлович приводит здесь точные слова из «Выписки из письма, полученного в С.-Петербурге от управляющего Демидовскою конторою в Таганроге о сведениях, им полученных от камердинера Федорова и кучера Ильи».
Шильдер рассказывает об этом эпизоде несколько иначе.
«Государь занимался за своим письменным столом, как вдруг над городом пронеслась туча и водворилась такая темнота, что Александр позвонил и приказал камердинеру Анисимову подать свечи. Вскоре затем прояснилось и показалось солнце. Тогда Ани-симов снова вошел и хотел вынести свечи. На вопрос государя, зачем? он ответил, что на Руси считается худой приметой — сидеть при свечах днем: могут подумать, что лежит покойник. Государь ответил: «Ты прав, и я так думаю — унеси свечи» (т. 4, стр. 368).
Разница между обеими версиями та, что по первой из них Александр сам заговорил о покойниках, а по второй Анисимов указал ему на существующую примету.
20 октября, в сопровождении генерал-адъютанта барона Дибича, лейб-медика баронета Виллие, доктора Тарасова и вагенмейстера полковника Соломки, император выехал из Таганрога в Крым.
«В первые дни, — как пишет Шильдер, — все обошлось благополучно и государь был очень весел и разговорчив».
Посетили Мариуполь, менонитские колонии на реке Молочной, Симферополь, Гурзуф, Никитский сад и Орианду, приобретенную государем у графа Кушелева-Безбородко.
«Там, по-видимому, Александр нашел тот уголок в Европе, о котором некогда мечтал и где желал бы навсегда поселиться. Вообще, со времени переезда в Таганрог казалось, что государь снова возвратился к прежним своим мечтам и помышлял об удалении в частную жизнь. «Я скоро переселюсь в Крым, — сказал Александр, — я буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку». Князю Волконскому он говаривал: «И ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем» (Шильдер, т. 4, стр. 376).
Побыв у Воронцова в Алупке, Александр верхом поехал в Байдары, где его ожидал экипаж и обед (он и в Алупку приехал верхом из Симферополя).
Обед он отослал в Севастополь, а сам в коляске с Дибичем поехал в Балаклаву, где и завтракал у командира греческого батальона (Равальота).
«Из Балаклавы император Александр проследовал в коляске до места, откуда идет дорога в Георгиевский монастырь. Там он опять сел на лошадь, в мундире, без шинели, отпустил свиту в Севастополь и, взяв с собою фельдъегеря Годефроа, направился в монастырь в сопровождении только одного татарина. Это было 27 октября (8 ноября) в 6 часов пополудни. День был теплый и прекрасный, но к вечеру подул северо-восточный ветер, и настал чувствительный холод. Не подлежит сомнению, что император Александр простудился во время этой неосторожной и несвоевременной поездки в Георгиевский монастырь, и таким образом утомительные переезды 27 октября послужили исходной точкой поразившего его вскоре смертельного недуга» (Шильдер, т. 4, стр. 370).
И с описания этой поездки Александра в Георгиевский монастырь Шильдер, колеблясь между официальным изложением истории и своим собственным убеждением, начинает, что называется, путаться или опять-таки «лавировать между Сциллой и Харибдой».
Это настроение покойного историка вполне ясно высказывается им в следующих словах: «Вообще следует заметить, что трудно согласовать между собою рассказы о последних трех месяцах жизни императора Александра; на каждом шагу встречаются противоречия, недомолвки, очевидные неточности и даже несообразности» (т. 4, стр. 483, прим. 410).
И действительно, даже самый приезд императора из Георгиевского монастыря в Севастополь описывается совершенно различно. Достойно внимания то обстоятельство, что именно начиная с этого дня, считающегося днем роковой для Александра простуды, противоречия принимают исключительно резкий характер.
Привожу для примера три описания этого дня.
«Наступила темнота, и холодный ветер усиливался, становился порывистым, а государь все не возвращался. Все ожидавшие его местные начальники и свита начали беспокоиться, не зная, чему приписать такое замедление в приезде императора. Адмирал Грейг приказал полицмейстеру поспешить с факелами навстречу к императору, чтобы освещать ему дорогу. Наконец, ровно в 8 часов прибыл государь. Приняв адмирала Грейга и коменданта в зале, Александр отправился прямо в кабинет, приказав поскорее подать себе чаю, от обеда же отказался…» («Воспоминания моей жизни» почетного лейб-хирурга Д. К. Тарасова).
«Вечером, в 10-м часу, при свете факелов, прибыл (Александр) в Севастополь, посетил храм Божий, при свете же факелов, делал смотр морским полкам. Потом спросил обедать, но ничего не кушал, а занялся приказаниями на следующий день» («Последние дни жизни Александра I». С.-Петербург, 1827 г.).
«Arrivé à Sevastopol pour y coucher…» (Histoire de la maladie et des derniers moments de l’empereur Alexandre fondée sur les informations les plus authentiques»). Гос. арх. (Разряд 3, No 163).
Нужно признаться, что более разительного противоречия, чем то, которое представляют эти три источника, трудно подобрать.
А между тем первый источник — воспоминания очевидца (д-ра Тарасова), второй — официозный, если не официальный рассказ, т. к. трудно предположить, чтобы в 1827 г. была разрешена к печатанию и продаже книга неофициозная о таганрогской трагедии; а третий — документ, одно заглавие которого свидетельствует о его, скажем, достоверности.
Между прочим, этот последний документ весьма загадочен; кто и когда его составил? Но об этом после.
Будем следить с особо напряженным вниманием за всем тем, что происходило в последующие дни.
«День 28 октября государь посвятил осмотру укреплений, флота, морского госпиталя и казарм; затем был большой обед у императора, и в наружности императора не было заметно никакой неблагоприятной перемены.
На другой день, 29 октября, Александр переправился на северную сторону, осмотрел там укрепления и затем проехал в коляске в Бахчисарай, где остановился в ханском дворце, подобно тому, как во время путешествия в 1818 г.
Здесь император, призвав Тарасова в кабинет, приказал ему приготовить из рису то самое питье, которое он пил в 1818 г., в январе, во время горячки с рожею на ноге. Тарасов немедленно выполнил полученное повеление и в то же время счел нужным довести об этом до сведения Виллие, присовокупив, что у государя расстроен желудок. «Впрочем, — добавляет Тарасов в своих записках, — он ни мне, ни Виллие не жаловался на какое-либо расстройство в своем здоровье, однако ж кушал в этот день один перловый суп и котлету». Несмотря на начавшееся нездоровье, государь не дал себе покоя и, между прочим, совершил поездку верхом в Гурзуф-Кале и на обратном пути посетил Успенский монастырь; он казался совсем здоровым, был весьма весел и со всеми обращался с обычной своей благосклонностью. 1 ноября Александр выехал на ночлег в Евпаторию и посетил там церкви, мечети, синагоги, казармы и карантины. 2 ноября он ночевал в Перекопе, где осматривал госпиталь. На следующий день рано поутру государь продолжал путь, согласно маршруту, и в селении Знаменском осматривал квартировавшую там артиллерийскую бригаду, а потом лазарет, при посещении которого остался особенно доволен пищею и преимущественно овсяным супом, которого довольно покушал… В этот день обеденный стол был в большом селении между Знаменской и Ореховым».
«Император, — пишет Тарасов, — с самого Бахчисарая, где он приказал приготовить для себя питье, казался совершенно здоровым, и ни мне, ни баронету Виллие нимало не жаловался на свое здоровье…»
Все вышеприведенное описание путешествия императора, с 28 октября по 4 ноября, заимствовано мною дословно из книги Шильдера, который, в свою очередь, заимствовал его из воспоминаний Д. К. Тарасова.
Анонимный автор документа, хранящегося в Гос. архиве («Histoire de la maladie et des derniers moments de l’empereur Alexandre») передает это так:
«Il employa la matinée du 28 à voir la ville, les hôpitaux, les casernes etc. Au nombre de ces dernières plusieurs étaient étouffantes de chaleur, d’autres au contraire à peine achevée n’avaient point de croisées et il y régnait un vent coulis pernicieux. Droit d’une caserne très chaude l’empereur s’est mis en bateau, en uniforme, refusant le manteau et a monté un vaisseau de guerre. Descendu à terre, il a déjeûné avec l’amiral Greigh sous une tente Daus l’aprés — dîner il a parcouru une autre partie de la ville et le 29 les arsenanx, le port etc. Comme il n’a rien voulu prendre pour son rhume, le mal est allé empirant les jours suivants, d’autant plus qu’il ne s’est point ménagé surtout à Baktchisaray, ou il a parcouru les environs à cheval. Le 1-er Novembre à Kozlow, le 2 à Pérékop il se sentait indisposé; le 3 à Orekhow il l’était encore plus et le temps était assez mauvais».
Сопоставляя эти два рассказа, нельзя не обратить внимания на заключающиеся в них противоречия, как в подробностях, так и в общем тоне. Так, например, 28 числа, по одной версии, у императора был большой обед, а по другой — он обедал в палатке с адмиралом Грейгом, (т. к. во французском тексте слово «déjeûné», очевидно, обозначает обед, о чем свидетельствует следующая затем фраза «dans l’aprés-dîner»).
В описании других дней Тарасов говорит: «…он ни мне, ни Виллие не жаловался на какое-либо расстройство в своем здоровье…» «Казался совершенно здоровым, был весьма весел» и т. п.
Во французском документе: «le mal est allé empirant les jours suivants». (Болезнь ухудшилась в течение последующих дней.)
Затем под датою 1 ноября в этом документе значится, что государь был в «Козлове» (Kozlow), тогда как он был в Евпатории; трудно даже понять, какое место следует подразумевать под именем «Козлов», т. к. очевидно, что речь не может идти об уездном городе Тамбовской губернии.
Общий же тон этой «Histoire de la maladie» и т. д. производит впечатление, что автор ее нарочито старается доказать, что государь простудился в Севастополе, даже вопреки показаниям врачей.
Документ этот составлен неизвестно кем и когда, но во всяком случае, конечно, после 19 ноября. Можно только сказать одно с уверенностью, что автор его был в свите государя в Таганроге, но не из близких приближенных, т. к. нигде не упоминается о личном разговоре между ним и Александром, но зато встречаются фразы вроде: «je l’ai vu à 10 heures sortant des appartements de l’Impératrice», (я его видел в 10 часов выходящим из апартаментов императрицы) «Sa Majesté m’a dit que l’Empereur allait mieux…» (Ее величество мне сказала, что государю лучше) — что дает возможность предполагать, что это лицо было, вероятно, в свите императрицы. Кроме того, в документе есть указание, что лицо это жило не во дворце.
Очень характерна также одна фраза в конце документа: «je n’écris pas pour le public mais pour moi et mes amis» (я пишу не для общества, а для себя и своих друзей); это утверждение, которое автор очевидно старается подчеркнуть, как-то не вяжется с тем обстоятельством, что документ оказался в Государственном архиве. «Histoire de la maladie» и т. д. производит скорее впечатление меморандума, составленного по особому, так сказать, заказу на основании самых достоверных сведений» (fondée sur les informations les plus authentiques), как о том упоминается в самом заголовке, а вовсе не записки «для себя и друзей». Впрочем, документ этот особенной важности за собой не имеет, кроме разве указанного мной общего тона, которым он написан; нам придется разбираться в гораздо более серьезных документах, как-то: журналы врачей, князя Волконского, письма императрицы Елизаветы Алексеевны и т. п.
Вернемся к нашему рассказу о возвращении Александра из Крыма в Таганрог.
3 ноября, после обеда, на последней станции, не доезжая Орехова, государь встретил фельдъегеря Маскова с бумагами из Петербурга и Таганрога. Приняв бумаги, он приказал фельдъегерю сопровождать его в Таганрог. По дороге ямщик, везший Маскова, погнал лошадей и на повороте, наехав на глинистую кочку, вывалил седока, причем так несчастливо, что Масков, ударившись головой, остался на мосту без движения. Государь увидел это и приказал доктору Тарасову оказать помощь пострадавшему, а по приезде в Орехов лично доложить ему о положении больного.
Тарасов приехал в Орехов около полуночи; генерал-адъютант барон Дибич поджидал его и приказал тотчас же явиться к императору, который с нетерпением ожидал известий о Маскове.
Д. К. Тарасов рассказывает так:
«По докладе камердинера я вошел в опочивальню государя. Его величество сидел против камина в шинели в рукава и читал бумаги. Я заметил, что он имеет беспокойный вид и старается согреться у горящего камина. Он тотчас, при переступлении моем через порог, спросил меня отрывисто: «В каком положении Масков?» — «Он при падении получил смертельный удар в голову, с сильным сотрясением мозга и большой трещиной в самом основании черепа; я нашел его на месте уже без дыхания и всякое врачебное пособие оказалось тщетным». Выслушав мое донесение, государь встал с места и в слезах сказал: «Какое несчастье, очень жаль этого человека!» Потом, обратясь к столу, позвонил в колокольчик, а я вышел. При этом я не мог не заметить в государе необыкновенного выражения в чертах его лица, хорошо изученного мною в продолжение многих лет; оно представляло что-то тревожное и вместе болезненное, выражающее чувство лихорадочного озноба».
На следующий день, 4 ноября, государь принимал в Орехове вызванных им туда екатеринославского гражданского губернатора и архиепископа Феофила, между которыми до того «произошла ссора, дошедшая до личной расправы». Сделав обоим соответствующее внушение, он выехал в Мариуполь, куда и прибыл в 7 часов вечера. В 10 часу он потребовал к себе лейб-медика Вил-лие, который нашел его «в полном развитии лихорадочного сильного пароксизма».
Тарасов пишет: «Виллие был крайне встревожен положением государя, казался потерявшим свое практическое присутствие духа и наконец решился дать государю стакан крепкого пунша с ромом, уложил его в постель и покрыл сколько можно теплее. Это усилило только беспокойство императора, и он немного заснул лишь к утру. Виллие предлагал остаться в Мариуполе, но государь не согласился на это, ибо от Мариуполя до Таганрога только 90 верст, и его величество спешил для свидания с императрицею, ожидавшею его прибытия в назначенное время, т. е. 5 ноября. Так было назначено по маршруту. 5 ноября, после сильного пароксизма, поутру государь чувствовал утомление и слабость. Часу в десятом утра в закрытой коляске с медвежьей полостью, в теплой шинели, отправился из Мариуполя».
III
Приезд в Таганрог состоялся в 7 часу вечера 5 ноября. С этого же числа начинают вести свои записки князь Волконский и баронет Виллие.
Как я уже упоминал, самыми важными документами, относящимися к таганрогской катастрофе и дающими возможность признать факт кончины императора Александра в Таганроге, являются именно записки этих двух лиц, а также д-ра Тарасова и императрицы Елизаветы Алексеевны. Ввиду этого я буду излагать дальнейшие события день за днем, основываясь на журнале князя П. М. Волконского и отмечая случаи, когда другие документы или пополняют даваемые им сведения, или противоречат им.
5 ноября
«Государь император изволил возвратиться из Крыма в 6 часов вечера. Вошедши в свою уборную, на вопрос мой о здоровье его, изволил ответить по-французски: «Я чувствую маленькую лихорадку, которую схватил в Крыму, несмотря на прекрасный климат, который нам так восхваляли. Я более чем когда-либо думаю, что мы прекрасно сделали, избрав Таганрог местопребыванием моей жены». Когда я спросил его величество, с каких пор он испытывает лихорадку, император ответил мне, что с Бахчисарая, где «прибыв вечером и почувствовав жажду, я спросил пить, и мой камердинер Федоров подал мне барбарисового сиропа. Так как во время путешествия в Крыму погода была очень жаркая, я подумал, что сироп мог испортиться, но мой камердинер сказал мне, что сироп не пострадал. Я проглотил целый стакан и лег спать. Ночью я почувствовал страшные припадки (transes), но, благодаря моему организму и прекрасному желудку, меня сильно прослабило, и все обошлось этим. По приезде в Перекоп я посетил госпиталь, где почувствовал снова небольшую лихорадку». По этому поводу я осмелился заметить его величеству, что было неблагоразумно с его стороны отправиться в госпиталь, где он мог лишь усилить свою лихорадку, вследствие нахождения в нем большего числа лиц, пораженных этой болезнью, и что император постоянно забывает, что, приближаясь к пятому десятку, не пользуешься уже теми силами, как в 20 лет. Он отвечал мне: «О, дорогой друг, я слишком чувствую это и уверяю вас, что я очень часто вспоминаю об этом и надеюсь, что все обойдется благополучно». Спросив меня затем о здоровье императрицы, он отправился к ней, где их величества и провели вместе остальную часть вечера».
В записках императрицы Елизаветы Алексеевны рассказывается так об этом их первом после крымской поездки свидании:
«Когда он вошел, моим первым вопросом было: «Здоровы ли вы?» Он сказал, что нездоров, что у него уже второй день лихорадка и он думает, что он схватил крымскую лихорадку. Я его усадила; у него был жар… он велел принести чай с лимоном, и когда доложили о Виллие, он пригласил его войти, чтобы сказать ему, что он чувствует себя довольно хорошо и что его не знобит, но что у него жар. Я без труда уговорила его идти спать, хотя он еще более получаса рассказывал о своем путешествии…»
Относительно ночи с 5-го на 6-е Виллие в своем дневнике пишет: «Ночь прошла дурно. Отказ принять лекарство. Он приводит меня в отчаяние. Страшусь, что такое упорство не имело бы когда-нибудь дурных последствий».
Между тем в записках императрицы встречается фраза: «В пятницу утром он прислал мне сказать, что провел ночь хорошо». Такое же противоречие со словами Виллие мы находим и в дневнике князя Волконского.
6 ноября
«Потру в 8 часов позван я был, как по обыкновению, к его императорскому величеству во время умывания: спросил о его здоровье, его величество изволил отозваться, что ночь провел изрядно и лихорадки не чувствовал. Взгляд у государя был слабый, и глаза мне показались мутны. Сверх того, глухота была приметнее, и до того, что, докладывая по некоторым бумагам, его величество изволил сказать мне, чтобы я остановился чтением до совершенного окончания его туалета. Одевшись, его величество, вышедши в кабинет, стал у камина греться, приказав мне продолжать доклад, по окончании коего, отпустив меня, занялся чтением бумаг. Изволил кушать с императрицей.
В 3-м часу в исходе, во время нашего обеда, камердинер его величества, Федоров, прислал записку к лейб-медику Виллие, в которой пишет, что государь в весьма большом необыкновенном поту. Г-н Виллие пошел тотчас к его величеству, куда я вслед за ним отправился. Пришедши к государю, нашли его величество в кабинете, сидящего на канапе в сюртуке и обернутым сверху байковым одеялом, дабы поддерживать пот. Г-н Виллие пощупал пульс и, посмотрев язык, нашел лихорадку, предложил принять тотчас слабительные пилюли, коих его величество изволил принять восемь. После того хотел было заниматься продолжением чтения бумаг, полученных из С.-Петербурга во время отсутствия его величества, но я и г-н Виллие от сего отклонили, дабы не увеличивать лихорадки занятием бумагами. Того же вечера в 7 часов лекарство произвело свое действие и государь почувствовал облегчение, был весьма весел, доволен лекарством, благодарил Виллие за пилюли, а меня за все о нем попечение. Потом изволил позвать императрицу, которая изволила оставаться одна у его величества до 10-ти часов вечера».
В описании этого дня журнал князя Волконского расходится с записками императрицы и баронета Виллие, которые, в свою очередь, расходятся между собой. Не буду перечислять мелочей, но укажу лишь на следующее обстоятельство. Князь Волконский утверждает, что он, встав из-за стола вместе с Виллие, оставался с Виллие у государя. Императрица пишет, что Виллие был один, а потом пришла она и уговорила государя принять пилюли; Волконский же пришел гораздо позже. Баронет Виллие же не упоминает о присутствии ни императрицы, ни Волконского.
Виллие по краткости своих заметок (он записывал только по несколько строк в день) мог, конечно, не упоминать о Волконском и даже об императрице. Но чтобы Волконский в своем официальном журнале, в котором он отмечал все свидания Александра с супругой, не упомянул бы о ней, это немного странно; так же как и утверждение императрицы, что она оставалась у императора вдвоем с Виллие, а что Волконский пришел гораздо позже.
Описание князя Волконского расходится еще в одном пункте с записками императрицы.
Князь Волконский пишет, как мы видели, что лекарство произвело действие в семь часов вечера, после чего государь почувствовал себя лучше, был очень весел и послал за императрицей, которая оставалась у него до 10 часов; между тем императрица пишет так:
«Мы оставались одни до 7 часов вечера с 4-х часов, когда он мне сказал, чтоб я его оставила, т. к. приближается действие лекарства. Я ему сказала: «Я вас увижу?» — «Да, сегодня вечером». Но т. к. он не присылал за мной и позже 9 часов вечера, я велела позвать Виллие, который мне сказал, что лекарство хорошо подействовало и что он после заснул и еще спит. Виллие начал весело болтать, наконец, я ему поручила сказать, если он увидит его по пробуждении, что поздно и что ложусь спать. Потом я простилась с Виллие».
7 ноября
«Ночь проводил государь спокойно и почивал хорошо. Поутру в 8 часов государь изволил делать свой туалет по обыкновению, принимал слабительную микстуру в 11 часов утра, от коей чувствовал себя легче; но ввечеру сделался небольшой жар оттого, что за всеми убеждениями не хотел продолжать микстуру».
Нельзя не отметить, что князь Волконский в журнале своем за это число поскупился на описание подробностей.
Императрица описывает этот день так (я опускаю ненужные подробности):
«В субботу 7-го он пришел ко мне между 11 и 12 часами и сказал мне, что он себя чувствует лучше… Он по-прежнему был желт, но более весел. Мы занялись раковинами, которые я собрала; затем он сказал, чтоб я шла гулять, а он будет заниматься. Я уговаривала его меньше работать, потому что вчера ему из-за этого стало плохо. Он отвечал: «Работа настолько сделалась моей привычкой, что я не могу без нее обойтись, и если я ничего не делаю, то чувствую пустоту в голове. Если бы я покинул свое место, я должен был бы поглощать целые библиотеки — иначе я бы сошел с ума». Когда я вернулась с прогулки, он мне прислал записку — последнюю, — предлагая мне присутствовать при его обеде. Я прибежала. Он кушал суп с крупой и сухую кашу с бульоном, т. к. он принял еще слабительного. После своего скромного обеда он ходил по комнате, остановился у одного из комодов, привел в порядок пакеты, готовые к отправке, но через некоторое время он мне сказал: «Вам придется скоро меня оставить, потому что мое лекарство действует, мой желудок не может больше ничего держать». Он послал меня обедать. Между 3 и 4-мя часами он пришел ко мне и нашел меня лежащей на том диване, который он устраивал для меня и из которого я сделала себе кровать. Я ему сказала, что скорее ему следует лежать, нежели мне, и уговаривала его лечь. После секундного колебания он сказал, что скоро пойдет спать к себе. Мы поговорили немного. Он встал и сказал: «Я пришел узнать, почему вы не пошли гулять после обеда». Я ему сказала, что дышала воздухом у окна и что у меня было два удовольствия: слушать шум моря и звон прекрасного колокола из греческой церкви Константина и Елены. Я описывала ему с таким жаром красоту звуков этого колокола, что он мне сказал улыбаясь: «Вы увидите, вам тут так понравится, что вам трудно будет уезжать». Около 7 часов он прислал за мной. Я нашла его раздетым, в халате, лежащим на диване. «Что это?» — спросила я. Он мне сказал, что лекарство на него подействовало до боли в желудке, что он надел фланелевый пояс и что Виллие дал ему чаю и теперь он чувствует себя хорошо. Он был весел. (Затем императрица пишет, что она показала ему рисунок их дома, потом модные журналы и т. д.). Он был в духе, еще веселее, чем накануне, и много говорил… Он смеялся. В 9 часов вошли Виллие и князь Волконский. Виллие спросил, как он себя чувствует. Он сказал «хорошо». Между тем Виллие нашел у него жар и сказал, что, наверно, он слишком много работал после обеда. «Это необходимость и это меня успокаивает», — сказал он. Князь Волконский сказал, что назначенный на завтра в клубе бал отменяется из-за траура при дворе (умер король Максимилиан Баварский, зять императрицы). Он возражал. Вошел генерал Дибич… Когда эти господа ушли, мы остались одни, он вскоре пожелал мне спокойной ночи и еще приподнялся, чтобы я могла поцеловать его в затылок».
Это описание императрицы, свидетельствующее о том, что Александр чувствовал себя хорошо, много беседовал с ней, смеялся, был весел и — если сопоставить указываемые ею часы — почти не видал Виллие, резко расходятся с последними строками самого Виллие за это же число: «Les exacerbations (ожесточение болезни) слишком часто повторяются, чтоб я позволил себе утверждать, что это Hemitritacus Semitertiana, хотя эта чрезвычайная слабость, эта апатия, эти обмороки имеют большое отношение с нею» (курсив мой).
Так же слова императрицы «лекарство подействовало», «он принял еще слабительного» совсем не совпадают с уверением князя Волконского: «за всеми убеждениями не хотел продолжать микстуру».
8 ноября
«Ночь проводил неспокойно и имел лихорадку. Поутру в 8 часов изволил делать свой туалет по обыкновению, приняв от меня поздравление с праздником, сожалел, что не может идти к обедне, дабы не возобновить лихорадки. Отпустив меня к обедне, сам изволил в кабинете, сев на канапе, заняться чтением Библии. После обедни, пришедши к его величеству, нашел его сидящим на канапе в маленьком жару. Государь изволил спрашивать, по обыкновению, хорошо ли отправлялась служба, как пели певчие, и хорошо ли служил вновь вывезенный его величеством из Новочеркасска диакон? Дав на все утвердительный ему ответ, я спросил о его здоровье; его величество изволил отвечать, что ему лучше, при сем изволил мне сказать, что не знает, что ему сделать с бумагами, коих много накопляется; на сие я отвечал, что теперь не до бумаг, ибо здоровье его величества теперь всего нужнее, а как, Бог даст, будет ему лучше, тогда успеет обделать все, как следует, но и притом нужно будет ему не вдруг заниматься беспрестанно бумагами, а понемногу, дабы лихорадка вновь не открылась. После сего приказал позвать к себе императрицу, которая изволила побыть у его величества до самого своего обеда. Государь ничего не изволил кушать, кроме хлебной отварной воды, и жар немного уменьшился. Государь изволил писать в С.-Петербург к ее императорскому величеству государыне императрице Марии Феодоровне, приказал сделать отправление 6-м числом, запретив писать о его болезни, изволил мне сказать: «Боюсь я экстрапочт, чтоб не навлекли хлопот известием о моей болезни и не встревожили бы там матушку». На сие я сказал, что напишут то, что ему угодно, но вместе с сим полагал я, что лучше писать правду, потому что нельзя совершенно отвечать, чтобы кто-нибудь из жителей не написал чего и более, чем скорее может всех встревожить. Вечером сделался пот, который продолжался всю ночь».
В этом описании князя Волконского обращают на себя внимание два обстоятельства. Почему автор журнала пишет, что государь «по обыкновению» спрашивал его о том, как прошла служба в церкви, как пели певчие и т. п.? Из этой фразы можно было бы заключить, что государь вообще за последнее время не посещал праздничных служб, а ограничивался лишь потом расспросом. Конечно, может быть также, что князь Волконский, который, по-видимому, писал так же плохо по-русски, как и по-французски, употребил выражение «по обыкновению» в том смысле, что государь был «как всегда», т. е. здоров.
Другую странность можно усмотреть в эпизоде отправки государем письма к вдовствующей императрице. Написав письмо 8-го, он велел пометить отправку 6-м и добавил, что «боится экстрапочт». Из этого следует заключить, что были обычные почты и необычные, т. е. экстрапочты. Но ведь если государь не желал, чтобы письмо его шло экстра-почтой, то почему же он послал его таковою, хотя бы и пометив его задним числом? Содержание этого письма неизвестно. Далее, почему князь Волконский 8 числа около полудня (после обедни) выражал уже опасение, чтобы «кто-нибудь из жителей не написал чего и более, чем скорее может всех встревожить». Ведь государь приехал в Таганрог всего только 5-го вечером, болезненное состояние его было очень незначительно: он вставал, как всегда, в 8 часов утра, одевался, ходил по дворцу, принимал доклады и т. п. Словом, не было никаких оснований предполагать, чтоб какие-либо тревожные слухи могли распространиться по городу и вызвать с чьей-либо стороны более чем тревожную переписку с Петербургом.
В записках императрицы за это число встречается следующая курьезная подробность:
«Обед состоял из стакана яблочной воды с соком из черной смородины… Виллие сказал, что он случайно нашел запас этого питья у князя Волконского, получившего его от своей сестры…»
Это, конечно, подробность неважная сама по себе — пил ли государь «хлебную отварную воду», как пишет Волконский, или «яблочную воду с соком из черной смородины», как пишет императрица; но странно то, что по указанию Волконского, который, казалось бы, мог запомнить рецепт посланного им питья и не называть его «хлебной отварной водой».
Дальше императрица рассказывает: «Между 5 и 6 часами он прислал за мной и сказал, что посылает в Петербург курьера, и дал мне для этого распоряжения. У него был очень больной вид, был жар в голове. Я пошла исполнить распоряжения и сообщила о сделанном. Он сказал: «Хорошо, отошлите ваши пакеты генералу Дибичу и, когда вы кончите, возвращайтесь». Я вернулась около семи часов, ему было лучше. Накануне я ему принесла газеты, прибывшие в его отсутствие, которые его позабавили (во французском оригинале «amusé»); он сказал мне принести продолжение. Я ему сказала: «У вас был такой болезненный вид, что мне было больно на вас смотреть. Вам теперь, по-видимому, лучше». «Да, я чувствую себя лучше», — ответил он мне; через некоторое время он опять начал читать газеты, а я тоже занялась чтением. Потом он приготовился спать и лег с видом такого хорошего ощущения (bien être), что приятно было на него смотреть — он улыбался и заснул.
Он спал таким образом около двух часов, причем дыхание было вполне спокойное и тихое (la respiration était la plus calme, la plus douce); он проснулся только один раз, посмотрел вокруг с таким видом, что я сочла его веселым, — с тем самым видом, который я наблюдала позже, в ужасные минуты, и потом опять уснул, улыбаясь; (une certaine mine que je croyais de la gaieté et que j’ai retrouvé plus tard dans des moments affreux); вошел камердинер, чтобы доложить о приходе Виллие, но он спал так крепко, что его не разбудили. Наконец, в 9 часов он проснулся. Вошел Виллие. — «Как вы себя чувствуете?» — «Очень хорошо, спокоен и свеж». — Виллие сказал: «Вы увидите, что будет пот»; поговорив некоторое время, ему предложили лечь. — «Мне хорошо так здесь», — сказал он; тем не менее я ушла, чтобы дать ему возможность лечь, причем он сказал мне: «Возьмите газеты, завтра принесете мне остальные». В десять часов (в книге великого князя Николая Михайловича сказано в «шесть часов», что очевидно не соответствует истине; вероятно, неопытный переписчик прочел слово «dix», как «six») я послала за Виллие; я спросила, лег ли он (император) спать; Виллие сказал, что ему не удалось уговорить его лечь; что он (император) продолжал улыбаться, повторяя: «Я чувствую себя здесь так хорошо», но что теперь, однако, он сказал, чтобы ему приготовили кровать (il avait demandé son lit). И действительно, — в течение ночи у него был обильный и хороший пот».
Судя по вышеприведенным запискам императрицы, можно заключить, что, если у императора и был жар, то начиная с 7 часов вечера он чувствовал себя хорошо, спокойно спал, был весел и настаивал на том, что ему «здесь так хорошо».
Тут опять мы наталкиваемся на противоречия.
Анонимный автор («Histoire de la maladie») пишет, что государь 8 числа чувствовал себя настолько дурно, что с утра призвал к себе Стоффрегена (le 8 Stoffregen a été appelé dès le matin).
Стоффреген был лейб-медик, состоявший при императрице, и государь его к себе не приглашал, так как имел своего собственного, которому он доверял и которого очень любил — баронета Я. В. Виллие. Поэтому нельзя не удивляться вышеприведенной фразе автора «Histoire de la maladie»; если бы действительно государь «с утра пригласил» к себе Стоффрегена, то, конечно, князь Волконский, а тем более императрица упомянули бы об этом в своих записках.
Упоминание о Стоффрегене мы находим только у самого Виллие, но совершенно разное с тем, которое делается в «Histoire de la maladie». Виллие пишет под той же датой.
8 ноября
«Эта лихорадка, очевидно, febris gastrial biliosa, эта гнилая отрыжка, это воспаление в стороне печени, des presscordes, рвота sine vomite nec dolore pititer comprimendo требует, чтобы premières voies были хорошо очищены. Надо traire печень. Я сказал Стоффрегену».
9 ноября
«Ночь была изрядная. Поутру, хотя пот и продолжался, но государь чувствовал себя лучше, что продолжалось во весь день. Так как в тот день должна была отправиться экстрапочта в С.-Петербург, то и просил я у его величества, чтобы изволил писать ее величеству о болезни. Государь император приказал государыне писать к ее императорскому величеству гос. имп. Марии Феодоров-не, равномерно приказал генерал-адъютанту барону Дибичу писать в Варшаву к цесаревичу, что, возвратясь из Крыму с лихорадкою, принужден не выходить из дома, дабы на увеличивать лихорадки». В дневнике императрицы за этот день сказано так: «Стоффреген мне сказал, что болезнь можно считать пресеченной, что если лихорадка вернется, то она примет перемежающуюся форму и с ней скоро покончат, и что — поэтому — я могу писать в С.-Петербург, что болезнь уже прошла (que la maladie n’était plus que du passe). Я видела его (императора) перед тем, чтоб выйти на прогулку, а позже он прислал за мною перед его обедом. Ему подали овсяный суп, он сказал, что ему действительно хочется есть и что это случается с ним впервые после 3-го числа. Он нашел, однако, что суп слишком густо сварен, и разбавил его водой; он съел его с аппетитом, а потом съел и сливы — он даже хотел еще поесть, но сказал: «Надо быть благоразумным». Немного спустя он сказал мне, чтобы я шла обедать, «а я, как порядочный человек, пойду прилягу после обеда». Между 6 и 7 час. он прислал за мною, чтобы я принесла ему газеты. «Вы мне приносите игрушку, как ребенку», — сказал он. Он прочел, что оставалось прочесть, но ему нездоровилось, у него был жар. Пока он читал, я читала «Les Mémoires de M-me de Genlis», и он задал мне несколько вопросов по этому поводу… В течение вечера он меня внезапно спросил: «почему вы не носите траура (по короле Баварском)?» — Я ответила, что сняла траур к его приезду и что мне не хочется его более надевать; но что если ему угодно, я завтра опять надену».
Улучшение в здоровье, происшедшее за этот день, отмечает и Виллие в своем дневнике.
Нелишне, может быть, будет обратить внимание на обстоятельство, что государь приказал сообщить о своей болезни цесаревичу Константину; это обстоятельство интересно само по себе, а кроме того, оно обращает на себя внимание потому, что в подлиннике журнала князя Волконского к последней строке позже приписано рукой самого Волконского: «Сие приказание г. Дибичу дано было 11-го ноября, а не 9-го». Эта пометка весьма странна, и мы к ней еще вернемся при дальнейшем рассмотрении обстоятельств, предшествовавших событию 19 ноября.
10 ноября
«Государь проводил ночь изрядно, но к утру сделалось хуже. В 8 часов принял шесть слабительных пилюль, в 11 часов утра, вставая с постели за нуждою, получил обморок и весьма ослабел. Во весь день продолжался жар, к вечеру сделался сильный пот и забывчивость, от чего мало уже и почти совсем не говорил, как только чего просил».
Эти последние строки журнала князя Волконского за 10 ноября резко расходятся с записками императрицы, в которых она подтверждает, что императору днем было нехорошо, но к вечеру, т. е. именно тогда, когда, по словам Волконского, государь впал в «забывчивость» и «почти совсем не говорил, как только чего просил», по ее словам:
«Переменив белье, он послал за мною; он лежал на диване (canapé) в своем кабинете и выглядел поразительно хорошо сравнительно с тем, как он выглядел днем (в оригинале «1 après diner» иначе говоря — после обеда, т. е. после 3 часов пополудни, т. к. Александр и императрица обедали в 3—4 часа). Со мною была моя книга, и я делала вид, что читаю, но наблюдала за ним; он нашел, что у меня усталое лицо. Я сказала, что у меня болит голова, что не вовремя закрыли печь, находящуюся около моей кровати; это была правда, но лицо мое было утомлено, потому что я плакала». После разговора о печке и о том, кто в этом виноват, они говорили о приеме депутации от калмыков.
«Кстати, — сказал он, — они хотят с вами проститься; я не могу их принят, так примите вы их». — «Когда?» — спросила я. — «Завтра; скажите об этом Волконскому». Желая ему спокойной ночи, я поцеловала его и перекрестила его дорогой лоб. Он улыбнулся».
Из вышеприведенного видно, насколько утверждения князя Волконского в его официальном журнале не соответствуют истине. Что касается баронета Виллие, то под этой же датой от 10 ноября он пишет следующие весьма знаменательные строки:
«Начиная с 8-го числа, я замечаю, что что-то такое другое его занимает больше, чем его выздоровление, и беспокоит его мысли. Post hoc egro propter hoc. Ему сегодня хуже, и Миллер, по его словам, тому причина. Князю Волконскому вследствие сего препоручено побранить бедного Миллера».
В «Histoire de la maladie» на это же число (10 ноября) даются указания, идущие вразрез не только со словами Волконского, но тоже и самой императрицы; зато они подтверждают до известной степени мнение Виллие о том, что государь был чем-то озабочен: La nuit a été mauvaise, mais il y avait une amélioration dans la matinée du 10. Il est échappé a l’empereur de dire médecins, il faut considérer l’état de mes nerfs, qui ne sont que trop détraqués, et les médecines ne feront que les déranger encore plus. (Ночь была нехорошая, но утром 10 последовало улучшение. У императора в обращении к докторам вырвались такие слова: надо считаться с моими нервами, которые слишком расстроены и без того, лекарства расстроят их еще больше.)
11 ноября
«Государь проводил ночь спокойно и поутру чувствовал себя лучше; приказал позвать императрицу, которая оставалась у его величества до самого обеда. К вечеру в шесть часов опять сделался жар, и, когда его величество встал за нуждою, с ним был обморок, но не столь сильный, как первый. К ночи жар убавился; потом продолжался всю ночь, от чего его величество худо почивал».
Записки императрицы за это число подтверждают улучшение в здоровье государя и заканчиваются так:
«Около пяти часов я послала за Виллие и спросила его, как обстоит дело, — Виллие был весел, он сказал мне, что у него (императора) жар, но что я должна войти, что он не в таком состоянии, как накануне».
Сам же Виллие пишет 11 ноября:
«Болезнь продолжается; внутренности еще довольно не чисты; ructus, inflatio. Когда я ему говорю о кровопускании и слабительном, он приходит в бешенство и не удостаивает говорить со мною».
Что касается «Histoire de la maladie», то мы находим в ней следующие строки:
«Le 11 j’ai de nouveau appris que l’empereur était emiux le matin mais que la nuit il a eu redoublement de fièvre. Sa Majesté croyait toujours, que c’était une fièvre de Crimée tandis que c’était toute autre chose». (11-го я опять узнал (узнала), что императору было лучше утром, но что ночью лихорадка усилилась. Его (или ее) величество продолжал (или продолжала?) думать, что это крымская лихорадка, тогда как это было нечто совсем иное.)
Я прошу читателя запомнить это число — 11 ноября, на котором «записка императрицы обрывается», как отмечает великий князь Николай Михайлович в своей книге «Легенда о кончине императора Александра I».
12 ноября
«Поутру жар продолжался; приказывал мне сделать ему питье из апельсинов, которое я вместе с г. Виллие ему сделал, чем его величество был очень доволен и меня благодарил. Позвать изволил к себе императрицу, которая изволила остаться целый день. К вечеру сделалось легче».
Виллие за этот день пишет следующие строки, начинающиеся довольно странной фразой:
«Как я припоминаю (курсив мой), сегодня ночью я выписал лекарства для завтрашнего утра, если мы сможем посредством хитрости убедить его принимать их. Это жестоко. Нет человеческой власти, которая могла бы сделать этого человека благоразумным. Я — несчастный».
Оставляя в стороне не совсем понятное и лирическое восклицание Виллие, нельзя не сопоставить заключительных слов журнала князя Волконского «к вечеру сделалось легче» со следующими словами автора: «Histoire de la maladie». «Le soir le redoublement de fièvre était trop violent pour ne pas pressentir le danger». (К вечеру лихорадка настолько усилилась, что нельзя было не предвидеть опасности.)
13 ноября
«Государь ночь провел изрядно и поутру принимал слабительное; жар уменьшился до полудня, потом опять начался и продолжался во всю ночь. Вечером принимал два клистира, которые много облегчили. Во весь день мало изволил говорить, кроме что просил иногда пить; апельсинный лимонад ему опротивел, просил сделать другой, почему и сделали из вишневого сиропа».
Баронет Виллие отмечает этот день такими строками (привожу подлинный текст):
«Tout ira mal, parce qu’il ne permet, n’écoute de faire ce qui est absolument nécessaire. Cette tendance à dormir est bien mauvaise augure». (Будет плохо, так как он и слышать не хочет, чтобы сделать то, что необходимо. Эта сонливость плохой знак.)
«Histoire de la maladie» описывает этот день в очень мрачных красках, совсем не совпадающих с указанием князя Волконского на то, что вечером последовало облегчение:
«Un assoupissement léthargique avec une respiration difficile et entrecoupée et des crispations violentes prouvaient qu’il fallait des remèdes plus efficaces, que le malade repoussait pourtant avec opiniâtreté. La nuit a été affreuse et les craintes sur cet état redoublaient à mesure que chaque redoublement de fièvre devenait de plus en plus violent». (Летаргическая сонливость, дыхание, затрудненное и прерываемое сильными спазмами, доказывали, что нужны были более действительные меры, от которых, впрочем, больной упорно отказывался. Ночь была ужасная, и опасения за его здоровье усиливались с каждым усиленьем лихорадки.)
14 ноября
«Поутру жар у государя был поменее, и его величество делал весь свой туалет и брился как обыкновенно. Около обеда сделался опять сильный жар, и за ушами шея к голове заметно покраснела, почему г. Виллие и Стоффреген предложили его величеству поставить за уши пиявки; но государь и слышать о сем не хотел, всячески был уговариваем и упрашиваем докторами, императрицею и мною, но всем отказал, отсылал даже с гневом, чтобы оставили его в покое, ибо нервы и без того расстроены, которые бы должно стараться успокаивать и не умножать раздражение их пустыми лекарствами. В 8 часов вечера, при императрице, встал и спустил ноги с постели, от чего сделался ему сильный обморок; видя его упрямство, я при ее величестве сказал докторам, что почитаю одним средством склонить государя на принятие лекарства и приставление пиявок — предложить его величеству причащение Святых Тайн, вместо всех лекарств, наставя вместе с тем духовника, чтобы на духу и после причащения старался его увещевать и согласить на приставление пиявок, говоря, что в Таганроге сие средство от лихорадки почитается самым лучшим. Доктора приняли мой совет и просили императрицу взять на себя сделать таковые предложения. Государыня, видя, что жар не уменьшается, изволила решиться предложить его величеству приобщиться, говоря:
«J’ai une grâce à vous demander, comme vous avez refusé tous les remèdes que les médecins vous ont proposés, j’espère que vous accepterez celui que je vous préposerai. — «Qu’est ce?» dit l’empereur. «C’est la communion», repondit l’impératrice. — «Suis je donc en danger? demanda Sa Majesté — «Non», dit l’impératrice, «mais c’est comme un remède que tout chrétien emploie dans les maladies». L’empereur repondit, qu’il l’accepte avec bien de plaisir et ordonna de faire charcher le prêtre».
В самое сие время сделался его величеству пресильнейший пот, почему доктора положили повременить причастием, пока пот будет продолжаться, я между тем занялся наставлением священника соборной здешней церкви, отца Алексея Федотова. В 11 часов вечера государь просил императрицу идти к себе почивать. Ее величество, ушедши, приказала себе дать знать, когда спросят духовника».
Виллие за этот день делает краткую, но очень интересную запись такого содержания (привожу полностью):
«Все очень нехорошо, хотя бреда у него нет. Я хотел дать ему acide muriatique в питье, но, по обыкновению, получил отказ. «Уходите» (Allez vous en). — Я заплакал, и он, увидав это, сказал: «Подойдите (venez), мой дорогой друг. Я надеюсь, что вы не сердитесь на меня за это. У меня — мои причины».
В этот же день, 14 ноября, в 9 часов вечера государь впервые потребовал к себе доктора Д. К. Тарасова, который по этому поводу пишет:
«Надобно заметить, что я во время болезни императора во дворце до того не бывал, а о положении его величества все подробности знал частью от баронета Виллие, не желавшего, как казалось, допустить меня в почивальню императора, а частью от лейб-медика Стоффрегена». (Курсив мой.)
Любопытно то обстоятельство, что с этого же первого дня, когда записки Тарасова приобретают для нас интерес, они становятся в противоречие с журналом князя Волконского. Так, например, Волконский пишет, что обморок случился в 8 часов вечера; Тарасов же утверждает, что это было утром в 7 часу, когда император собирался бриться. Волконский пишет, что, когда императрица предложила государю причаститься, он спросил: «Разве я в опасности?» — на что она возразила: «Нет». — Тарасов же описывает эту сцену так: на предложение причаститься, Александр спросил: «Кто вам сказал, что я в таком положении, что уже необходимо для меня это лекарство?» — «Ваш лейб-медик Виллие», — ответила императрица. Тотчас Виллие был позван. Император повелительно спросил его: «Вы думаете, что болезнь моя уж так зашла далеко?» Виллие, до крайности смущенный таким вопросом, решил положительно объявиться императору, что он не может скрывать того, что он находится в опасном положении. Государь, с совершенно спокойным духом, сказал императрице: «Благодарю вас, друг мой, прикажите — я готов».
Помимо вышеприведенных разногласий между журналом Волконского и записками Тарасова, попадаются также и другие, менее значительные: так, например, Волконский пишет, что «в самое сие время (когда императрица говорила о причащении) сделался его величеству пресильнейший пот», Тарасов же утверждает, что император, по выходе императрицы, вскоре забылся и заснул. Волконский пишет, что после этого разговора «в 11 часов вечера государь просил императрицу идти к себе почивать»; из записок же Тарасова видно, что императрица пришла к государю только в 12 часу. Это, конечно, мелочи, но я все таки считаю нужным их отметить.
15 ноября
«Жар продолжался до 4-х часов утра. В 6 часов сделалось его величеству хуже, о чем я немедленно доложил ее величеству, которая, пришедши к государю, тотчас напомнила о духовнике, и вместе с тем г-н Виллие объявил государю, что он в опасности. Его величество приказал позвать духовника и, прослушав молитвы к исповеди, обратился к императрице, сказал: «Il faut me laisser seul». Когда все вышли, то государь изволил исповедываться, а по окончании приказал духовнику призвать императрицу, с коей вошел опять и я с ген.-ад. Дибичем и с докторами Виллие, Стоффрегеном, Тарасовым и камердинерами; государь изволил приобщиться Святых Тайн, после чего духовник, поздравляя его величество, просил его не отказывать помощь медиков и советовал, по обычаю здешнему, приставить пиявки. Умоляя государя не терять времени, стал с крестом в руках на колени. Государь сказал: «Встаньте» и, поцеловав крест и духовника, сказал, что никогда не ощущал большего удовольствия, как в сей раз; обратился к императрице, взял ее руку и, поцеловав оную, сказал: «Jamais je n’ai éprouvé un plus grand plaisir et vous remercie beaucoup». Как жар не убавлялся, напротив того, усиливался, то доктора предложили опять пиявки; его величество, не отказывая с тех пор ничего, употреблял все лекарства, какие ему были подносимы; начали с пиявок, коих поставили за уши 35 по обеим сторонам, что продолжалось довольно долго и крови довольно было вытянуто; жар хотя и уменьшился, но не надолго, и к ночи было уже хуже. Прикладывали синапизмы к рукам и бедрам».
Записки Тарасова опять во многом противоречат журналу князя Волконского (отмечаю ниже курсивом эти противоречия).
«Я всю ночь просидел подле больного и, наблюдая за положением его, заметил, что император, просыпаясь по временам, читал молитвы и псалмы, не открывая глаз. В пять с половиной часов утра 15 ноября император, открыв глаза и увидев меня, спросил: «Здесь священник?» Я тотчас сказал о сем барону Дибичу, князю Волконскому и баронету Виллие, проводившим всю ночь в приемном зале подле кабинета. Князь Волконский доложил о сем императрице, которая поспешила прибыть к государю. Все вошли в кабинет и стали при входе у дверей. Немедленно был введен протоиерей Федотов. Император, приподнявшись на левый локоть, приветствовал пастыря и просил его благословить; получив благословение, поцеловал руку священника. Потом твердым голосом сказал: «Я хочу исповедаться и приобщиться Святых Тайн; прошу исповедать меня не как императора, но как простого мирянина; извольте начать, я готов приступить к святому таинству».
Затем следует описание сцены причащения и просьбы духовника о принятии лекарств.
«К вечеру положение императора казалось несколько лучше».
Баронет Виллие ограничивается за этот день несколькими строками:
«Что за печальная моя миссия объявить ему о его близком разрушении (dissolution) в присутствии ее величества императрицы, которая пошла предложить ему верное средство: sacre-mentum».
На следующий день (16) Виллие подтверждает факт причащения и увещеваний Федотова, а также принятия императором некоторых лекарств.
Я соединил записи Виллие за два дня в одно, т. к. они представляют одно целое и в сущности обе относятся к событиям, имевшим место 15-го.
Тут же не могу не упомянуть об одном странном обстоятельстве, опровергающем все вышеприведенные показания, в том числе и самого Виллие.
В декабре 1840 г. в Петербург приехал английский дипломат, лорд Лофтус. В своих записках Лофтус упоминает о встрече с Виллие, а также и о том, что Виллие рассказывал одному общему их другу следующее: когда императору Александру с его согласия поставили пиявки, он спросил императрицу и Виллие, довольны ли они теперь? Они только что высказали свое удовольствие, как вдруг государь сорвал с себя пиявки, которые единственно могли спасти его жизнь. Виллие сказал при этом Лофтусу, что, по-видимому, Александр искал смерти и отказывался от всех средств, которые могли отвратить ее. Вероятно, Виллие сказал еще что-нибудь своему соотечественнику, т. к. лорд Лофтус пришел к заключению, что смерть Александра всегда останется необъяснимой тайной, и дала повод ко многим неправдоподобным рассказам о том, что его будто бы отравили, что он кончил самоубийством или же, наконец, что его будто бы умертвили.
Это указание английского дипломата очень интересно: перечисляя неправдоподобные слухи, порожденные событием 19 ноября, он не упоминает в числе их исчезновения императора и похороны другого лица взамен его, хотя этот слух распространился по России сейчас же после таганрогской катастрофы.
16 ноября
«Ночь проводил худо и все почти в забытьи; в 2 часа ночи попросил лимонного мороженого, которого откушал одну ложечку, потом во весь день ему было худо; к вечеру положили еще к ляжкам синапизмы, но жар не уменьшался. Государь был все хуже, в забытьи и ничего не говорил».
Этому немногословному показанию князя Волконского разительно противоречат следующие строки, приводимые Шильдером (т. 4, стр. 383) по дневнику Тарасова:
«Ночь государь провел несколько спокойнее. Жар был менее сильный; поставленная на затылок шпанская мушка хорошо подействовала».
Кстати сказать, г. Василич, автор «Легенды о старце Кузьмиче и императоре Александре I», цитируя записки Тарасова и Волконского, совершенно опускает вышеприведенные строки.
Что же касается анонимного автора «Histoire de la maladie», который все свое повествование вообще ведет в необычайно мрачных, трагических красках (так что поневоле удивляешься иногда, по каким таким «informations les plus authentiques» он их составлял), то он заявляет, что «усиление лихорадки между 3 и 4 часами утра 16-го ноября сопровождалось всеми признаками смерти (le redoublement de fièvre survenu entre 3 et 4 heures du matin le 16 était accompagné de tous les indices de la mort).
Невольно обращает на себя внимание еще и то обстоятельство, что все имеющиеся документы часто, как мы видели, противоречащие один другому, после 15 ноября (день причащения) становятся удивительно, если можно так выразиться, «малословными», дают очень мало материала и впадают в еще большие противоречия: мы видели пример этого под датой 16 ноября. Перейдем к следующему дню.
17 ноября
«Ночью было государю худо, поутру в шесть с половиной часов положили на спину шпанскую муху. BIO часов утра стал всех узнавать и немного говорить, то есть только просил пить. К вечеру сделалось хуже, однако позвал меня и сказал: «Сделай мне…», — и остановился; я спросил у его величества: «Что прикажете сделать?» Посмотрев на меня, отвечал: «Полосканье»; отошед от него, заметил, что уже нельзя ему полоскать рта, потому что сил не имел, чтобы подняться, а между тем забылся опять и был всю ночь в опасности».
Тарасов пишет, что «болезнь достигла высшей степени своего развития».
Императрица же в этот день написала вдовствующей государыне Марии Феодоровне письмо такого содержания:
«Я не была в состоянии написать Вам со вчерашней почтой. Сегодня… наступило очень решительное улучшение (du mieux très décidé) в состоянии здоровья императора… Вы получаете бюллетени. Следовательно, вы могли видеть, что с нами было вчера (a quoi nous avons été réduits hier) — и даже еще этой ночью. Но сегодня сам Виллие говорит, что состояние здоровья нашего дорогого больного удовлетворительно».
У самого же Виллие находим следующие строки:
«Чем дальше, тем хуже. Смотрите историю болезни. Князь (Волконский) в первый раз завладел моей постелью, чтобы быть ближе к императору. Барон Дибич находится внизу».
Нельзя не обратить внимания на это «завладение» Волконским постели Виллие именно тогда, когда, казалось, близость доктора, а не генерал-адъютанта была всего нужнее.
18 ноября
«Поутру государь стал немного посильнее, что и продолжалось до вечера, но к ночи сделался опять сильный жар, от коего пришел в совершенную опасность, ничего уже не говорил, но узнавал, ибо каждый раз как вскрывал глаза и видел императрицу, то, взяв ее руки, целовал и прикладывал к сердцу. Когда я к нему подошел, то изволил, взглянув милостиво, улыбнуться, и когда я поцеловал руку его величеству, то изволил сделать знак мне глазами, зачем я сие делаю, ибо я знал, что он не жаловал давать свою руку целовать. В 11 часов и 40 минут вечера опасность начала прибавляться, и с тех пор все уже был в забытьи».
Воспоминания Тарасова расходятся с показаниями князя Волконского в первой их части, т. е. об улучшении в течение утра и дня; но в дальнейшем разногласий не встречается.
«Histoire de la maladie» расходится с предыдущими источниками в указаниях времени, кроме того, описывает утро 18-го с полным противоречием Волконскому (le 18 au grand matin le redoublement de fièvre eut lieu avec les mêmes alarmes»), a также упоминает о присутствии духовника, о котором не упоминают ни Волконский, ни Тарасов, ни Виллие.
Виллие пишет: «Ни малейшей надежды спасти моего обожаемого повелителя. Я предупредил императрицу и кн. Волконского и Дибича, которые находились — первый у себя, а последний — у камердинеров».
Кстати следует отметить, что Виллие не упоминает о Тарасове; Тарасов же не упоминает о Виллие и пишет, что он — Тарасов — предупредил императрицу и что он дежурил ночью при государе; автор же «Histoire de la maladie» утверждает, что дежурным был доктор Добберт, причем даже император выразил изумление, т. к. не привык его видеть:
«Ses yeux rencontrent un individu qu’il n’était pas habitué de voir — c’était le médecin Dobbert qui était de service puor le veiller. Son regard était plein de curiosité et de surprise».
19 ноября
«Государь оставался в забытьи во все время до конца, в 10 часов и 50 минут испустил последний дух. Императрица закрыла ему глаза и, подержав челюсть, подвязала платком, потом изволила пойти к себе».
Привожу полностью описания этого утра по другим источникам.
«Воспоминания Тарасова»:
«Наступило 19-е ноября. Утро было пасмурное и мрачное; площадь перед дворцом вся была покрыта народом, который из церквей, после моления об исцелении государя, приходил толпами ко дворцу, чтобы получить вести о положении императора. Государь постоянно слабел, часто открывал глаза и прямо устремлял их на императрицу и святое распятие. Последние взоры его были настоль умилительны и выражали столь спокойное и небесное упование, что все мы, присутствовавшие, при безутешном рыдании, проникнуты были невыразимым благоговением. В выражении лица его не заметно было ничего земного, а райское наслаждение и ни единой черты страдания. Дыхание становилось все реже и тише».
«Histoire de la maladie»:
«В четверг 19 ноября, день навсегда прискорбный, пароксизм закончился продолжительной агонией, к дыханию примешивались стоны, которые доказывали страдания больного, а также предсмертная икота. Дыхание становилось все короче; пять раз оно совершенно останавливалось и столько же раз возобновлялось. В три четверти одиннадцатого император испустил последний вздох в присутствии императрицы, которая оставалась одна в молитвах около своего умирающего супруга. Она осталась около получаса при бездыханном теле; это была она, которая закрыла глаза и рот покойнику…»
«Дневник Виллие»:
«Ее величество императрица, которая провела много часов вместе со мною, одна у кровати императора все эти дни, оставалась до тех пор, пока наступила кончина в 11 часов без 10 минут сегодняшнего утра. Князь, барон, доктора, дежурные de vita aeterna gauderi spero».
Прибавим еще два показания: первое — д-ра Добберта («Aus dem Leben Dobberts), того самого, которого император так удивился видеть у себя в комнате; второе — камердинера Федорова.
Добберт пишет: «Er hatte einen qualvollen Tod, beinahe elf Stunden dauerte der Todeskampf». (Он умер мучительной смертью. Борьба со смертью — агония — продолжалась почти одиннадцать часов.)
По сведениям камердинера Федорова:
«Она (императрица) полторы сутки находилась при императоре; за час до кончины государь, открыв глаза и видя около себя предстоящих любезнейшую царицу, барона Дибича, князя Волконского и прочих особ, не мог говорить, но память еще имел; сделал движение рукою, звал государыню, которая к нему подошла… Наконец, на исходе души великого своего супруга, сама изволила закрыть дражайшему своему царю глаза и, подвязав ему платком подбородок, залившись слезами, получила сильный обморок. Немедленно вынесли ее в другую комнату».
IV
В предыдущей главе я привел все документы, относящиеся к болезни императора Александра I вплоть до момента его кончины. Документы эти считаются бесспорными, и на них основываются исследователи интересующего нас вопроса, отстраняя какую-либо возможность отождествления Александра с таинственным старцем Федором Кузьмичем.
«Вот вам записки императрицы, вот вам воспоминания врачей, вот вам официальные журналы князя Волконского и «Histoire de la maladie» — разве можно возражать против таких аргументов? Разве может оставаться еще хоть тень сомнения в подлинности кончины государя именно в Таганроге 19 ноября 1825 года?»
Так говорят эти исследователи, и на первый беглый взгляд кажется, что они правы. Какие, в самом деле, могут быть тут возражения против показаний очевидцев? И каких очевидцев! Вдовы покойного, его врачей, его ближайшего друга Волконского и его камердинера…
Признаюсь, что когда года три тому назад я начал изучать этот вопрос, то, прочитав эти документы, а затем и сочинения, в основу которых были положены эти документы, я готов был вполне присоединиться к высказанному ими мнению и причислить рассказ о Федоре Кузьмиче к категории тех красивых исторических легенд, которые делают из Григория Отрепьева — царевича Дмитрия Иоанновича и из княжны Таракановой — законную дочь императрицы Елизаветы Петровны от ее брака с графом А. К. Разумовским.
Но поставить, так сказать, крест на эту историю меня удержало одно соображение: почему покойный Н. К. Шильдер, этот несомненно лучший знаток жизни императора Александра I, почему он допускал возможность исчезновения своего героя из Таганрога и «перевоплощение» его в сибирского отшельника? Ведь не мог же маститый историк увлечься романтической сказкой; должен же он был иметь какие-нибудь серьезные данные для этого? А что Шильдер допускал эту возможность — это я знал наверное.
В колоссальном труде своем «Император Александр I» он не мог, конечно, в качестве — если не официального, то официозного — историка открыто высказать свое мнение; но во многих местах он делает на это намеки. И самые прозрачные намеки, по моему мнению, заключаются даже не в самом тексте, а в примечаниях и приложениях к последнему тому. Кроме того, всегда беспристрастный великий князь Николай Михайлович в своей «Легенде о кончине императора Александра I» открыто констатирует факт, что Шильдер признавал эту возможность.
Чем же мог руководствоваться Шильдер?
К сожалению, Н. К. уже не было в живых, и мне самому пришлось доискиваться этих причин. Единственный путь был тщательное, кропотливое изучение документов, тех самых, которые, по-видимому, опровергают всякую возможность отнестись серьезно к «истории о Федоре Кузьмиче».
И вот результаты этого изучения я теперь вкратце предлагаю вниманию читателя, причем спешу прибавить, что в следующей главе я приведу опять все имеющиеся документы, охватывающие период с 19 ноября до дня похорон в Петропавловской крепости.
Великий князь Николай Михайлович (на стр. 16 своей книги), приводя уже известные нам документы, пишет:
«Почти все эти документы сходятся даже в подробностях о ходе болезни и о самой кончине государя…»
Августейший историк был прав, когда написал в начале этой фразы осторожное «почти». Документы эти очень редко сходятся, а иногда даже очень разительно расходятся. В предыдущей главе я день за днем отметил эти разногласия, почему и не стану возвращаться к ним. Но не могу не указать еще на одно разногласие, наиболее поразившее меня. Перечитайте документы, относящиеся к роковому утру 19 ноября, и вы не сможете ответить даже на следующие три (казалось бы, важные) вопроса:
1. При каких обстоятельствах скончался Александр — спокойно или в мучениях? В сознании или без сознания?
2. Кто присутствовал при кончине? Одна ли императрица или еще кто-нибудь? И если кто-нибудь, помимо ее, присутствовал, то кто именно?
3. Как держала себя императрица после кончины ее супруга? Спокойно или нет? Плакала или нет? Ушла ли она из комнаты сама или с ней сделался обморок и ее вынесли?
К этим трем вопросам можно, пожалуй, прибавить еще один: когда точно скончался государь, в 10 ч. 45 мин. или в 10 ч. 50 мин.? И этот вопрос даже не был бы особенно придиркой, т. к. мы имеем дело с кончиной исключительно выдающегося лица, а такие моменты, как известно, отмечаются с, так сказать, хронометрической точностью. Например, смерть гениального противника Александра I, императора Наполеона, известна с точностью почти до секунды.
Но, опуская этот последний вопрос, могущий показаться придиркой, — какие ответы можно беспристрастно дать на первые три, основываясь на «бесспорных документах»? Не знаю, не знаю и не знаю.
Ведь нельзя же, в самом деле, ссылаться, например, в вопросе о количестве присутствовавших при кончине на «современные рисунки».
Г. Василия в своей книге приводит гравюру (из собраний Шибанова), изображающую «Смерть Александра I в Таганроге», причем на этой гравюре, кроме самих императора и императрицы, изображены еще двенадцать (!) человек; а через страницу тот же автор приводит другую гравюру, изображающую «Императора Александра I в Ал.-Невской лавре», на которой император изображен в полном одиночестве.
Впрочем, г. Василич — замечу мимоходом — вообще очень неудачно иллюстрирует свою книгу. Так, например, он на отдельном листе сопоставляет маску, снятую с покойного в Таганроге, с портретом Федора Кузьмича. Какой смысл в таком сопоставлении? Если Александр умер в Таганроге и маска снята с него, то, очевидно, Кузьмич не был Александром, потому сопоставление не имеет никакого значения, так же как и в обратном случае — если Кузьмич был Александр, а маска была снята с кого-то другого, похороненного вместо императора.
Но это, так сказать, только маленький упрек по адресу г. Василича, за который, надеюсь, он на меня не посетует.
Возвращаюсь к интересующим нас документам.
Я уже обращал внимание читателя на заметки авторов этих документов от 11 ноября. Объяснюсь.
Мне лично кажется, что именно 11 ноября случилось что-то особенное, чего мы не знаем, но что невольно заставляет призадуматься.
За этот день императрица пишет (противореча князю Волконскому в подробностях):
«Около 5-ти часов я послала за Виллие и спросила его, как обстоит дело. Виллие был весел, он сказал мне, что у императора жар, но что я должна войти, что он не в таком состоянии, как вчера».
На этом записки императрицы обрываются…
Но в этот же самый день 11 ноября, когда здоровью императора не грозила никакая опасность, когда «Виллие был весел» и когда она вечером имела беседу со своим супругом, императрица пишет письмо своей матери, маркграфине Баденской:
«Где убежище в этой жизни? Когда вы думаете, что все устроили к лучшему и можете вкусить этого лучшего, является неожиданное испытание, которое отнимает от вас возможность наслаждаться окружающим…» (Où est le refuge dans cette vie? Lorsqu’on croit avoir tout arrangé pour le mieux et pouvoir le goûter, il survient une épreuve inattendu, qui ôte la faculté de jouir du bien dont on est entouré.)
Далее, почему записки императрицы на этом дне обрываются? Неужели она вдруг прекратила писать? А если она продолжала их писать, — куда девалось продолжение? Записки эти хранились и хранятся по сию пору в собственной его величества библиотеке. Или, быть может, император Николай I, «любивший», по выражению одного лица в частном письме ко мне, лица, которое я не считаю себя вправе назвать, — «уничтожать многое, касающееся брата и, между прочим, весь дневник императрицы Марии Феодоровны, уничтожил также и продолжение этих записок вдовы своего брата?
И почему император Николай Павлович истреблял некоторые документы, относящиеся к жизни Александра I? Как известно, он очень любил его, высоко почитал; их связывала самая сердечная дружба. Следовательно, нельзя допустить мысли, что им руководило желание загасить воспоминание о его брате в будущих поколениях. Разница в политических воззрениях? Желание не обнаруживать перед историей этой разницы? Нет, и этого нельзя допустить, т. к. именно те документы, которые относятся к первой половине царствования Александра, т. е. к той эпохе, которая наиболее по своим политическим идеям разнится от эпохи императора Николая I, — эти документы не уничтожены.
Да это и не соответствовало бы характеру самого Николая I. Можно считать его царствование царствованием реакции, можно не соглашаться с принципами, положенными им в основу его общественной и политической деятельности, но нельзя отрицать того, что он был цельная фигура, сильный и даже самомненный человек, гордый и немелочный, который не стал бы скрывать убеждения своего предшественника на престоле и уподобляться страусу, прячущему голову под крыло и думающему, что его никто не видит, потому что он сам никого не видит.
Нет, император Николай уничтожал — насколько нам известно — документы, относящиеся именно к последним годам царствования Александра, и преимущественно те, которые носили не официальный характер, а частный, интимный, семейный.
Повторяю, я считаю невозможным, чтобы императрица Елизавета Алексеевна внезапно прекратила свои записки на /7 ноября. Должно было быть продолжение; и вот это-то продолжение — не существует, не дошло до нас.
Если оно существовало — оно, очевидно, было уничтожено, т. к. заключало в себе что-то, что не должно было стать достоянием потомства.
Если же я ошибаюсь, и императрица действительно прекратила на этом дне свои записки, то перед нами опять встает тот же вопрос: почему она прекратила их писать? Это заколдованный круг, из которого нельзя выбраться. Единственный логический выход, размыкающий этот круг, это предположение или даже уверенность, что 11 ноября 1825 г., разговор императора Александра с его супругой был не простой беседой, а заключал в себе что-то настолько серьезное, что побудило или императрицу прекратить свои записки, или императора Николая уничтожить продолжение их.
Но это еще не все, что заставляет нас серьезно призадуматься над этим таинственным числом 11 ноября. Мы видели, что П. М. Волконский в своем официальном журнале отметил под датой 9 ноября, что император Александр приказал начальнику штаба, генерал-адъютанту барону Дибичу известить о своей болезни цесаревича Константина Павловича. И тут же князь Волконский приписал потом: «Сие распоряжение г. Дибичу дано было 11 ноября, а не 9-го».
Как понять эту приписку? Не надо забывать, что мы имеем дело с официальным документом. Не мог же князь Волконский ошибиться на два дня, приводя такое важное указание, как официальное извещение цесаревича императором о его болезни. Я говорю официальное извещение, т. к. иначе его трудно назвать. Император Александр был в не менее, если даже не более, дружеских отношениях со своим братом Константином, чем он был с Николаем.
9 ноября он лично пишет пространное письмо своей матери, вдовствующей императрице Марии Феодоровне, но — Константину Павловичу письма не посылает, а поручает это сделать своему начальнику штаба.
Невольно вспоминаются слова императора, сказанные им еще в бытность его в Варшаве цесаревичу Константину: «Когда придет время абдикировать, то я дам тебе знать, и ты мысли свои напиши к матушке».
Почему «к матушке», а не «ко мне»?
По той же, надо полагать, причине, почему сам Александр, «давая знать» о своей болезни цесаревичу, написал лично письмо «к матушке».
Очевидно, императрица Мария Феодоровна являлась передаточной инстанцией, связующим звеном между Александром и Константином в таинственной их переписке о возможных отречениях от престола и престолонаследия. И тут снова приходит на память факт сожжения императором Николаем дневника императрицы Марии Феодоровны, «матушки» Александра, Константина и его самого, Николая.
Но, однако, — как можно объяснить приписку князя Волконского о том, что цесаревич был извещен бароном Дибичем не 9, а 11 ноября?
Конечно, не невольной ошибкой в датах. Такое предположение недопустимо. Ошибиться Волконский не мог. Следовательно, он сделал это намеренно. Ему, очевидно, по некоторым соображениям, внезапно показалось неудобным отнести к одному и тому же дню письмо Александра к императрице Марии Феодоровне и официальное распоряжение, данное государем Дибичу. Но почему он избрал для своей «поправки» именно 11-е ноября? Или потому, что это число почему-либо особенно запечатлелось в его памяти, или потому, что ему понадобилось «пригнать» день, когда государь дал распоряжение Дибичу, к числу особенно значительному, которое когда-нибудь в будущем могло бы быть выяснено и поставлено в связь с другими датами и документами, документами… до нас не дошедшими, по крайней мере в значительной их части.
Но мне еще придется говорить о князе Волконском как об одном из главнейших актеров таганрогской драмы. Пока я ограничусь, помимо вышеприведенных строк, еще одним замечанием по поводу его журнала.
Журнал этот, несомненно, написан был post factum и по особому приказанию.
Он помечен 7 декабря и послан в Петербург статс-секретарю Г. И. Вилламову с препроводительным письмом, начинающимся такими словами:
«Милостивый государь Григорий Иванович. Получив отношение Вашего превосходительства из С.-Петербурга от 27 ноября и во исполнение высочайшей воли государыни императрицы Марии Феодоровны, мне объявляемой, спешу при сем доставить собранный собственно для себя журнал о болезни в Бозе почивающего покойного государя императора Александра Павловича, который полагал хранить драгоценным памятником нахождения моего при последнем конце жизни обожаемого мною монарха, при лице которого имел счастье быть ровно 29 лет. Из сего журнала ее императорское величество изволит усмотреть, что 14-го числа покойный государь император, казалось, не полагал себя в опасности и мало вообще изволил хворать, того же числа память его начала совершенно упадать, и с трудом выговаривал слова, когда просил пить или чего другого…»
Продолжение этого письма Волконского к Вилламову касается обстоятельств, последовавших событию 19 ноября, и я позже приведу его полностью с тех самых слов, на которых прерываю его теперь.
Нельзя не удивиться этому началу письма. Во-первых, как я уже упомянул, оно свидетельствует, что императрица Мария Феодоровна (опять она, добавлю между скобок) потребовала от Волконского, чтобы он прислал журнал болезни.
Письмо Вилламова, сопровождавшее это «требование», было послано из Петербурга 27 ноября и получено было не ранее 6 декабря, т. е. накануне дня, когда князь Волконский послал свой ответ. Говорю не ранее, т. к. даже экстрапочта не могла проследовать из Петербурга до Таганрога скорее, чем в девять-десять дней; даже известие о событии 19 ноября дошло до Петербурга только на девятый день, а именно 27 ноября. 27 ноября, т. е. в тот самый день, когда Вилламов по приказанию императрицы Марии Феодоровны послал князю Волконскому свое письмо.
Из сопоставления этих чисел явствует, что немедленно, всего через несколько часов по получении известия о событии в Таганроге, императрица Мария послала через Вилламова официальный запрос Волконскому, который в свою очередь немедленно же послал Вилламову наскоро составленный журнал о болезни и приведенное выше письмо.
Князь Волконский, был очевидно, застигнут врасплох требованием императрицы Марии, т. к. письмо его противоречит даже приложенному к нему журналу.
Из письма явствует, что до 14 ноября «государь мало вообще говорил, с того же числа память его начала совершенно упадать, и с трудом выговаривает слова…»
Волконский забыл, что даже в его журнале — не говоря уже о других журналах — до 14-го государь вовсе не чувствовал себя так уж плохо, что в самое утро 14-го «он делал весь свой туалет и брился как обыкновенно», что к вечеру «он отсылал всех с гневом, чтобы оставили его в покое, ибо нервы и без того расстроены»; что 15-го утром приходил духовник, с которым государь говорил больше часа, и т. д., и т. д.
Все это поневоле заставляет подумывать о такой возможной сцене. В Петербурге получается известие о кончине императора. Императрица Мария Феодоровна — женщина, как известно, большого ума и такта — немедленно, не успев, так сказать, даже и погоревать и одного часа, думает о том, что необходимы официальные подробности о болезни и смерти, и приказывает статс-секретарю Вилламову немедленно же затребовать таковые — от кого?.. — не от барона Дибича, не от лейб-медика Виллие, которые по положению своему являются лицами, к кому официальный запрос мог бы быть обращен, а к князю П. М. Волконскому, личному другу императора.
Волконский получает письмо Вилламова, теряется, понимает смысл запроса императрицы Марии, наскоро набрасывает краткий дневник — не без наивности начиная его с 5 ноября (т. е. со дня приезда в Таганрог), — перепутывает подробности, за неимением времени согласовать свои показания с показаниями других лиц, и отсылает его с приложением письма, которое он опять-таки не имеет времени согласовать даже с собственным своим скороспелым журналом.
Мне скажут — это из области фантазии. Я спрошу — а какое вы можете дать другое объяснение, которое хотя бы мало-мальски объясняло все указанные противоречия? Эту изумительную поспешность, с которой императрица Мария запросила князя Волконского и князь Волконский ответил на запрос? Желанием ее узнать немедленно подробности о болезни сына? Нет. Она получала бюллетени о состоянии его здоровья. Журнал князя Волконского был несомненно составлен задним числом, наскоро и в силу особых обстоятельств.
Теперь перейдем к другим документам.
Из них первое место, конечно, занимают записки императрицы; но именно этот драгоценный документ обрывается на загадочном 11 ноября…
Затем следуют записки лейб-медика баронета Я. В. Виллие. Отрывистые, порою загадочные фразы, наскоро набросанные, и значение которых сводится на нет хотя бы уж одним вышеприведенным разговором их автора с другом лорда Лофтуса. Кроме того, эти записки тоже писаны задним числом, хотя и с явным намерением придать им вид писанных день за днем. В этом отношении характерна фраза «как я припоминаю» (от 12 ноября).
Воспоминания доктора Д. К. Тарасова. Они написаны много лет спустя, и, как говорит Шильдер, в них «все числа перепутаны и требуют поправок». Кроме того, не следует забывать, что Тарасов, по его же признанию, был впервые приглашен к государю только 14 ноября вечером. Многие его указания идут вразрез с другими источниками; это, конечно, может быть объяснено именно тем фактом, что они написаны много лет спустя; но что подрывает к ним доверие, это неверная передача, даже искажение фактов, имевших место 19 ноября утром.
Тарасов мог перепутать «за давностью лет», когда с императором «приключился обморок», кто и в какой час приходил навещать государя, но он не мог забыть обстоятельств, сопровождавших последние минуты. А между тем в описании этих последних минут он становится в резкое противоречие даже с таким «высокоофициальным источником», как «Histoire de la maladie».
Но перейдем к описанию того, что происходило после рокового утра 19 ноября.
V
Тело оставалось во дворце с 19 ноября до 11 декабря; затем было перенесено в собор Александровского монастыря и «поставлено на устроенном там катафалке, под балдахином, увенчанным императорскою короною. В соборе ежедневно совершалось архиерейское служение, а поутру и ввечеру панихиды. Там тело оставалось до 29 декабря 1825 г. В этот день печальная процессия двинулась из Таганрога на дальний север. (Шильдер, т. 4, стр. 433). Перевоз тела продолжался ровно два месяца; процессия прибыла в Царское Село 28 февраля 1826 г.
Разберемся сперва в документах, относящихся к периоду от 19 ноября до 29 декабря, т. е. к промежутку времени, заключающемуся между днем смерти и днем, когда тело покинуло Таганрог.
Александр скончался 19 ноября около 11 часов утра. Вскрытие тела было сделано 20 числа в 7 часов вечера, т. е. тридцать два часа спустя после смерти, промежуток весьма значительный, особенно приняв важность обстоятельств, необходимость немедленного бальзамирования, присутствие большого количества врачей и т. п.
Что происходило в таганрогском дворце за эти два дня?
Какие имеются документы?
Князь П. М. Волконский обрывает свой журнал на моменте смерти. В письме к статс-секретарю Г. И. Вилламову он не дает никаких подробностей — да и не только подробностей, а и вообще никаких сведений — о том, что происходило после 10 часов 50 мин. утра 19 ноября.
Я привел в предыдущей главе начало этого письма; привожу вторую его часть:
«…Касательно печальной церемонии, то я имел честь уведомить Ваше превосходительство, что мною здесь исполнено по сие время; а вчера свинцовый гроб с телом поставлен в деревянный, обитый золотым глазетом с золотым газом и усыпанный шитыми императорскими гербами, на том же катафалке под троном, в траурном зале. Сегодня (т. е. 7-го декабря) надета порфира и золотая императорская корона. Когда окончен будет катафалк в церкви греческого монастыря, тогда тело перевезется туда, где останется впредь до высочайшего разрешения, ожидаемого из С.-Петербурга, на основании объявленного мне о том из Варшавы от 27-го ноября повеления от его императорского величества государя императора Константина Павловича. Мне необходимо нужно знать, совсем ли отпевать тело при отправлении отсюда, или отпевание будет в С.-Петербурге, которое, ежели осмеливаюсь сказать свое мнение, приличнее полагаю сделать бы здесь, ибо хотя тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело, и даже черты лица покойного совсем изменились, через несколько же времени и еще потерпят; почему и думаю, что в С.-Петербурге вскрывать гроб не нужно, и в таком случае должно будет совсем отпеть, о чем прошу Вас испросить высочайшее повеление и меня уведомить чрез нарочного. — Здоровье ее императорского величества вдовствующей государыни императрицы Елисаветы Алексеевны весьма посредственно. Вот уже несколько ночей кряду изволят худо оные проводить и чувствует судороги в груди, принимая, однако ж, прописываемые г-м Стоффрегеном лекарства. Ежедневно два раза присутствовать изволят у панихид. Фрейлине Валуевой и г-ну Стоффрегену объявлено, чтобы как можно подробнее доносили о здоровье ее императорского величества. — Покорнейше прошу вас, милостивый государь, повергнуть меня к стопам Е. И. В. Гос. Имп-цы Марии Феодоровны за всемилостивый отзыв ее величества обо мне, который остается единственным мне утешением после сделанной ужаснейшей потери. Да подкрепит Всевышний силы ее императорского величества в столь чрезмерной ее печали и продлит дни ее, для всех нас столь драгоценные. Вашего Превосходительства покорнейший слуга князь Петр Волконский».
Ничто в этой второй части письма не говорит нам — как я уже указывал выше — о том, что происходило в таганрогском дворце после момента смерти: единственное, что мы можем из него почерпнуть, это что императрица присутствовала ежедневно на панихидах. А между тем не следует забывать, что письмо это было послано 7 декабря и, казалось бы, могло содержать в себе какие-либо подробности о том, что происходило между 19 ноября и 7 декабря.
Это — первое, что поражает в письме князя Волконского. Второе, это настойчивость, с которой князь советует отпеть тело в Таганроге и, в связи с этим советом, его фраза «лицо все почернело и даже черты лица покойного совсем изменились, через несколько же времени и еще потерпят».
Что черты лица изменились — это мы знаем также и из других документов, но что «лицо все почернело» и что через несколько времени (т. е. при привозе тела в Петербург) черты лица «и еще потерпят», эти указания не находят себе подтверждения в других документах и даже противоречат им. Я после приведу эти документы; пока же прошу читателя обратить внимание на эти слова Волконского, которые бесспорно наводят на мысль, что верный друг императора Александра усиленно настаивал на том, чтобы гроб был запаян в Таганроге и не открывался более.
Затем нельзя не обратить внимания на то обстоятельство, что Волконский пишет слова «тело покойного», ни разу не прибавляя к ним какого-либо эпитета вроде «в Бозе почившего государя» или «Его императорского величества» и т. п., что совершенно не вяжется с обычным стилем Волконского и тем более в официальном письме.
Перехожу к другим документам.
Баронет Виллие пишет под датой 20 ноября:
«Как скоро его величество скончался, даже до того, некоторые лица удостоверились в вещах и в короткое время бумаги были запечатаны; обменивались замечаниями зависти, горечи об отсутствующем».
Это — все. И мало, и… много.
«Некоторые лица» даже до того, что государь скончался, «удостоверились в вещах» и опечатали бумаги.
Эта картина последних минут императора не особенно походит на ту, которую дает Тарасов: «Все свитские и придворные стояли в опочивальне во всю ночь и ожидали конца этой сцены, который приближался ежеминутно».
Эти «некоторые лица», «удостоверяющиеся в вещах», заставляют скорее думать, что в момент кончины в спальне действительно никого не было, кроме императрицы, как о том свидетельствует «Histoire de la maladie» и о чем можно заключить также и из записок самого Виллие (от 19 ноября), и из журнала князя Волконского, который, как мы видели, умалчивает о лицах, присутствовавших в роковую минуту, и говорит только об императрице, закрывшей глаза покойному.
Помимо этого, странно еще также, что Виллие, знавший всех придворных, употребляет такое энигматическое выражение, как «некоторые лица». Почему он не называет их по именам? Да и кто могли быть эти лица? Мы знаем поименно весь штат императора в Таганроге. Этими «лицами» — по занимаемому ими положению — могли быть только князь П. М. Волконский и барон Дибич. И действительно, в письме Дибича на имя «Императора» Константина Павловича от 19 ноября мы находим прямое указание на это: «nous avons cacheté avec le prince Volkonsky les papiers que se trouvaient dans le cabinet de S. M. l’Empereur».
Почему Виллие предпочел не назвать их?
Но перейдем к другим документам. Во-первых, что сталось с императрицей?
20 ноября она уехала из дворца в частный дом гг. Шихматовых, где и оставалась до 29 числа, а затем опять возвратилась во дворец. В связи с ее пребыванием у Шихматовых находятся два малоизвестных документа, цитируемые полностью великим князем Николаем Михайловичем в «Легенде о кончине императора Александра I».
Эти документы — два письма от неизвестного лица из семьи Шихматовых к матери и брату.
В них рассказывается с чужих слов о болезни и смерти императора более или менее согласно с приведенными мною в главе III источниками. Новыми в них являются только следующие сообщения:
«…Сего дня 18-го поутру прислал князь Волконский к моему зятю просить, чтобы он приготовил свой дом на случай всеобщего несчастья для императрицы, которую они располагали перевезти к нам… Сию минуту пришла моя женщина из дворца сказать нам, что, слава Всевышнему, нашему государю императору сделалось лучше, и сейчас взяли здешнего штаб-лекаря Александровича, о котором предложил мой зять, ибо он в моем доме пользует двадцать лет и особливо горячих чудесным образом лечит… Сейчас пришли сказать, что в полночь, в 12 часов, сделалось опять очень худо, и он страдает… — 19-го числа в 11 часов. Нет у нас больше нашего отца, и мы, несчастные, должны Вам нашу сердечную горесть сообщить…
…Императрицу до сих пор милосердый Бог укрепляет, которую просили переехать к нам на дом, на что она не хотела согласиться и сказала князю Волконскому: «Я уверена, что вы разделяете со мною мое несчастье, но неужели вы думаете, что меня привязывала одна корона к моему мужу? Я прошу вас не разлучать меня с ним до тех пор, покуда есть возможность», — после чего никто ее не смел просить, и она оставалась целый день одна в своих комнатах, и ходила беспрестанно к телу без свидетелей… На другой день опять просил ее князь переехать к нам в дом, хотя на несколько дней, на что она согласилась, и уже 4-й день у нас; но она изволит ездить всякий день к телу и совершенно неутешна».
В приведенных выше письмах, оставляя в стороне сообщение о д-ре Александровиче, о котором ни в одном официальном документе не упоминается, а также и двусмысленную фразу императрицы, обращенную к Волконскому, — нельзя не обратить внимания на то весьма странное указание, что еще 18-го утром, когда, по журналу Волконского, «государь стал немного посильнее, что и продолжалось до вечера», тот же самый Волконский просит Шихматовых приготовить их дом для императрицы. Припомним, кстати, что именно в ночь с 17-го на 18-е, Волконский «в первый раз завладел» постелью Виллие, «чтобы быть ближе к императору».
Есть еще одно обстоятельство, касающееся этих писем, которое нельзя обойти молчанием.
Копии эти находились в футляре, в котором хранится гипсовая маска императора. Маска и бумаги были найдены в Большом Царскосельском дворце в собственных комнатах императора Александра II; ныне эти бумаги находятся в рукописном отделении собственных его величества библиотек (великий князь Николай Михайлович, «Легенда о кончине императора Александра I»).
Не странно ли, что кому-то понадобилось снять копии с частных семейных писем и что копии эти постигла такая совершенно удивительная судьба: быть найденными в собственных комнатах Александра II, хранящимися в футляре, вместе с такой реликвией, как маска, снятая с покойного?
Такую участь, пожалуй, могли бы еще иметь «Акт о кончине», «Протокол вскрытия тела», но какие-то письма, настолько, казалось бы, малозначащие, что даже имя писавшего их неизвестно?..
Но перехожу к другим документам, которым исследователями занимающего нас вопроса приписывается — и вполне справедливо — особо важное значение.
Первое место занимают письма императрицы Елизаветы Алексеевны к ее матери маркграфине Баденской и ее свекрови вдовствующей императрице Марии Феодоровне.
Привожу эти письма полностью:
1. К маркграфине Баденской, 19 ноября
«Ah! maman! je suis la plus malheureuse créature sur la terre. J’ai voulu vous dire seulement que j’existe après la perte, de cet Ange martyrisé par la maladie et qui néanmoins avait toujours pour moi un sourire ou un regard de bienveillance, quand même il ne reconnaissait personne. Oh! maman, maman! que je suis malheureuse, comme vous souffrirez avec moi! Grand Dieu, quelle destinée! je suis abimée par la douleur, je ne me comprends pas, je ne comprends pas ma destinée, enfin je suis bien malheureuse. Le souvenir de sa profonde resi — gnation en toute chose me soutiendra. Ma bonne maman! comme vous souffrirez avec moi».
I. К маркграфине Баденской, 19 ноября
«Я самое несчастное создание на земле. Я хотела сказать вам только, что я еще существую после потери этого ангела, который, несмотря на измучившую его болезнь, всегда находил для меня благосклонную улыбку или взгляд, даже когда он никого не узнавал. О, матушка! матушка! Как я несчастна, как вы будете страдать вместе со мной! Боже, какая судьба! Я подавлена горем, я не понимаю самое себя, я не понимаю своей судьбы, словом — я очень несчастна. Воспоминание о его глубокой покорности во всем — поддержит меня. Моя добрая матушка! как вы будете страдать со мною!».
2. К императрице Марии Феодоровне, 19 ноября
«Chère Maman! Notre ange est au ciel et moi sur la terre; de tous ceux qui le pleurent la créature la plus malheureuse, puissé-je le joindre bientôt! Oh, mon Dieu c’est presque au delà des forces humaines, mais puisque je l’a envoyé sans doute il faut pouvoir le supporter. Je ne me comprends pas, je ne sais si je rêve, je ne puis pas combiner, ni comprendre mon existence. Voici de ses cheveux, chère maman! Hélas! Pourquoi a-t-il du souffrir autant! Mais sa figure maintenant ne porte plus que l’expression de la satisfaction et de la bienveillance qui lui sont naturelles. Il semble approuver ce qui se passe autour de lui. Ah! chère maman, que nous sommes tous malheureux! Tant qu’il sera ici, je reste ici, quand il partira si on le trouve possible, je partirai aussi. J’irai avec lui tant que je pourrai. Je ne sais encore ce que je deviendrai; chère maman, conservez moi vos bontés».
II. К императрице Марии Феодоровне, 19 ноября
«Дорогая матушка! Наш ангел на небе, а я — на земле; о, если бы я, несчастнейшее существо из всех тех, кто его оплакивает, могла скоро соединиться с ним! Боже мой! Это почти свыше сил человеческих, но раз Он это послал, нужно иметь силы перенести. Я не понимаю самое себя. Я не знаю, не сплю ли я; я ничего не могу сообразить, ни понять моего существования. Вот его волосы, дорогая матушка! Увы! Зачем ему пришлось так страдать! Но теперь его лицо хранит только выражение удовлетворенности и благосклонности ему свойственной. Кажется, что он одобряет все то, что происходит вокруг его. Ах, дорогая матушка! как мы все несчастны! Пока он останется здесь — и я останусь, а когда он уедет, уеду и я, если это найдут возможным. Я последую за ним, пока буду в состоянии следовать. Я еще не знаю, что будет со мною дальше; дорогая матушка, сохраните ваше доброе отношение ко мне». По поводу этого письма Шильдер пишет:
«Заметим здесь, что до сих пор этот исторический документ передавался в различных сочинениях в совершенно искаженном виде».
3. К маркграфине Баденской, 21 ноября
«Je vous écris, chère et bonne maman, sans savoir que vous dire. Je suis incapable de rendre ce que j’éprouve. C’est une douleur continue, un sentiment de desolation, auquel je crains parfois que ma religion ne succombe. Oh! mon Dieu! c’est presque au delà de mes forces. Si encore je n’avais pas reèu de lui tant de caresses, tant de témoignages de tendresse presque jusqu’au dernier moment et il fallut voir expirer cet être angelique, qui conservait la faculté d’aimer, ayant perdu celle de comprendre. Que faire de ma volonté qui lui était soumise, de ma vie que j’aimais a lui consacrer. Oh! maman, maman, que faire, que devenir? Je ne vois plus rien devant moi. Je reste ici tant qu’il sera, quand il partira, je partirai aussi, je ne sais quand où j’irai. Je ne puis vous en dire d’avantage, ma bonne maman, je me porte bien, ne souffrez pas trop pour moi, mais si j’osais, je désirerais bien suivre celui qui était le but de ma vie».
III. К маркграфине Баденской, 21-го ноября.
«Я пишу вам, дорогая и добрая матушка, сама не зная, что вам сказать. Я не в силах передать то, что я испытываю. Это — непрестанная боль, чувство отчаяния, с которым — я временами борюсь — бессильна бороться моя вера. Боже мой! это почти свыше моих сил. Если б еще я не видела с его стороны столько ласки, столько нежности почти до последней минуты и если б мне не пришлось присутствовать при кончине этого ангельского существа, которое не утеряло способности любить, утеряв способность понимать. Что мне делать с моей волей, которая была ему подчинена и с моей жизнью, которую я любила посвящать ему! О, матушка! что мне делать? что мне делать с собой? я больше ничего не вижу пред собой. Я останусь здесь, пока он здесь останется; когда он уедет, уеду и я. Я не знаю, когда и куда я поеду. Больше я ничего не могу вам сказать, моя дорогая матушка; я чувствую себя хорошо, не терзайтесь слишком много за меня, но если б я смела, я бы охотно последовала за тем, кто являлся целью моей жизни».
Эти письма выражают приличную случаю скорбь, и ничего другого императрица, конечно, не могла написать. Как отдельные документы их комментировать нельзя; с ними надо считаться в общей картине таганрогской драмы. Из отдельных фраз можно обратить внимание на ту, в которой императрица говорит, что останется в Таганроге до тех пор, пока «он» останется, и уедет, когда «он» уедет (quand il partira je partirai aussi). Эта фраза дословно повторяется в письме от 19 ноября к императрице Марии и в письме от 21-го к маркграфине Баденской, причем в первом добавлены слова «si on le trouve possible» (если это найдут возможным). Эта приписка в письме, обращенном к императрице Марии, довольно характерна, так же, как и употребленное Елизаветой Алексеевной безличное местоимение «on». Вряд ли под этим «оп» можно подразумевать врачей, т. к. если бы Елизавета Алексеевна видела возможное препятствие к своему отъезду из Таганрога одновременно с телом покойного в совете врачей в связи с ее нездоровьем, она, вероятно, в таком случае написала бы «les médecins» или, еще вернее: «l’état de ma santé». Принимая во внимание, что она, целиком повторяя фразу о своем отъезде, в письме к своей матери выпускает эти добавочные слова, следует допустить, что она считала нужным адресовать их только в Петербург, и потому под местоимением «on» правильнее подразумевать не врачей, а кого-либо другого; одно или несколько лиц, от распоряжения которого или которых зависел дальнейший распорядок дел в связи с событием 19 ноября.
Вслед за вышеприведенными письмами императрицы Елизаветы Алексеевны привожу полностью другие документы, относящиеся к первым дням, последовавшим за смертью.
I. Всеподданнейший рапорт генерал-адъютанта барона Дибича к императору Константину Павловичу от 19 ноября 1825 г.
«С сердечным прискорбием имею долг донести Вашему императорскому величеству, что Всевышнему угодно было прекратить дни всеавгустейшего нашего государя императора Александра Павловича сего ноября, 19-го дня, в 10 часов и 50 минут пополуночи здесь в городе Таганроге. Имею счастье представить при сем акт за подписанием находящихся при сем бедственном случае генерал-адъютантов и лейб-медиков».
II. Акт о кончине императора Александра
«Нижеподписавшиеся, находясь в Екатеринославской губернии, в городе Таганроге, при высочайшей особе, с глубочайшей верноподданическою скорбию свидетельствуем, что благочестивейший государь император Александр Павлович, самодержец всероссийский и пр., и пр., и пр., на возвратном пути из Крыма 3-го и в особенности 4-го числа ноября почувствовал первоначальные лихорадочные припадки, кои скоро по прибытии его величества в Таганрог 5-го числа оказались послабляющею желчною лихорадкою, из коей образовалась впоследствии воспалительная жестокая горячка с прилитием крови в голову. Сия болезнь увеличивалась с быстротою и продолжалась с таким упорством, что все непрестанно употребляемые к прекращению ее врачебные средства оставались тщетными. 15-го числа государь император изволил приобщиться Святых Тайн. 17-го поутру в положении его величества примечена была некоторая перемена, возбудившая слабый луч надежды к облегчению страждущего венценосца; но в продолжение того и последующих дней при совершенном истощении последних сил его величества горячка усиливалась с сугубой жестокостью, 19-го же числа, пополуночи в 10 часов и 50 минут, государь император отошел из сей жизни в вечную. Все сие к неописанной горести верных сынов России, совершилось в присутствии Е. И. В. Гос. Имп-цы Елисаветы Алексеевны, которая за всю болезнь августейшего ее супруга изволила быть при нем неотлучно, при чем и мы, нижеподписавшиеся, непрерывно находились. Настоящее свидетельство утверждаем подписанием нашим в двух экземплярах. Писано и подписано Екатеринославской губернии в городе Таганроге ноября в 19 день 1825 года.
Член Госуд. Совета, генерал от инфантерии генерал-адъютант князь Петр Волконский.
Член Госуд. Совета, начальник главного штаба, генерал-адъютант барон Дибич.
Баронет Яков Виллие, тайный советн. и лейб-мед.
Конрад Стоффреген, д. ст. сов. и лейб-медик».
С этого документа был сделан перевод на французский язык, причем во французском подлиннике фигурирует, кроме четырех вышеприведенных подписей, еще и подпись генерал-адъютанта Чернышева (Alexandre de Czernicheff, lieutenant general et Aide de Camp General). Почему эта разница в количестве подписей между русским и французским актами — объяснить трудно. Впрочем, спешу добавить, что я привел эти документы не по подлинникам, а по «Приложениям» к т. 4 соч. Шильдера. Возможно, что произошла простая типографская ошибка, недосмотр корректора при печатании книги Шильдера, и что в оригинале русского подлинника имеется и подпись Чернышева.
Если же типографской ошибки не произошло и подпись Чернышева действительно отсутствует в русском тексте, то такое явление, конечно, странно и производит впечатление будто для «заграницы» требовалось увеличить количество подписей, для большей, так сказать, убедительности.
Впрочем, это, во всяком случае, обстоятельство второстепенное.
К «рапорту» и «акту о кончине», посланным в Варшаву Константину Павловичу, барон Дибич присоединил еще два частных письма, а также копию с письма, посланного им императрице Марии Феодоровне.
В этих письмах, которые Шильдер приводит полностью в приложениях к своей «Истории Александра I», ничего особенно интересного не заключается, кроме разве того факта, что он написал два письма, а не одно, т. к. оба письма написаны и посланы в один и тот же день. Первое письмо краткое; оно подтверждает факт кончины и присутствие при оной императрицы Елизаветы Алексеевны, однако без указания, что кто-либо кроме императрицы присутствовал; это является до некоторой степени официальным подтверждением, что в момент кончины никого, кроме государыни, в комнате не было.
Во втором письме Дибич пишет, что, «не имев никаких инструкций на случай несчастья», он по поводу всего совещался с Волконским (сюда же относится и вышеприведенная фраза: «nous avons cacheté avec le prince Volkonsky les papiers…»); что он (Дибич) вставил во французском переводе акта о кончине титул «Roi de Pologne»; что он послал письмо императрице Марии с генералом Потаповым; что копию с сего письма он «при сем препровождает»; что, когда болезнь Александра приняла опасный оборот, он (Дибич) написал князю Лопухину, председателю Государственного Совета, петербургскому и московскому генерал-губернаторам, а также «секретные письма» генералам графам Витгенштейну и Сакену; что он надеется (но сомневается), что Константин Павлович приедет в Таганрог.
В общем — эти письма носят официальный характер и содержат в себе, особенно второе письмо, перечисление тех мер, которые начальник главного штаба счел себя обязанным принять в связи со вступлением на престол нового монарха.
3. Протокол вскрытия тела (20 ноября 1825 года, 7 ч. веч.) (опускаю вступительную фразу).
«…и нашли следующее:
1. На поверхности тела.
Вид тела вообще не показывал истощения и мало отступал от натурального своего состояния как во всем теле вообще, так и в особенности в брюхе, и ни в одной из наружных частей не приметно ни малейшей припухлости.
На передней поверхности тела, именно на бедрах, находятся пятна темноватого, а некоторые темно-красного цвета, от прикладывания к сим местам горчичников происшедшие; на обоих ногах ниже икр, до самых мыщелков приметен темно-коричневый и различные рубцы (cicatrices)^ особенно на правой ноге, оставшиеся по заживлению ран, которыми государь император одержим был прежде. На задней поверхности тела, на спине между крыльцами, до самой шеи простирающееся довольно обширное приметно пятно темно-красного цвета от приложенного к сему месту пластыря шпанских мух происшедшее. Задняя часть плеч, вся спина, задница и все мягкие части, где наиболее находится жирной клетчатой плевы, имеют темно-оливковый цвет, происшедший от излияния под кожу венозной крови. При повороте тела спиною вверх из ноздрей и рта истекло немного кровянистой влаги.
2. В полости черепа.
При разрезе общих покровов головы, начиная от одного уха до другого, кожа найдена очень толстою и изобилующею жиром. По осторожном и аккуратнейшем отделении пилою верхней части черепа из затылочной стороны вытекло два унца венозной крови. Череп имел натуральную толстоту. По снятии твердой оболочки мозга, которая в некоторых местах, особенно под затылочной костью, весьма твердо была приросши к черепу, кровеносные сосуды на всей поверхности мозга чрезмерно были наполнены и растянуты темною, а местами красноватой кровью от предшествовавшего сильного прилития оной к сему органу. На передних долях мозга под лобными возвышениями (protuberantia frontales) приметны два небольшие пятна темно-оливкового цвета от той же причины. При извлечении мозга из своей полости, на основании черепа, равно как и в желудочках самого мозга, найдено прозрачной сукровицы (serositas) до двух унцов. Хоровидное сплетение левого мозгового желудочка найдено твердо приросшим ко дну оного.
3. В грудной полости.
По сделании одного прямого разреза, начиная от гортани чрез средину грудной кости до самого соединения лобковых костей, и двух косвенных, от пупка до верхнего края подвздошных костей, клетчатая плева найдена была повсюду наполненной большим количеством жира. При соединении ребер с грудиною хрящи оных найдены совершенно окостеневшими. Оба легких имели темноватый цвет и нигде не имели сращения с подреберной плевой. Грудная полость нимало не содержала в себе водянистой влаги. Сердце имело надлежащую величину и во всех своих частях, как формою, так и существом своим нимало не отступало от натурального состояния, равно и все главные сосуды, от оного происходящие. В околосердечной сумке (pericordium) найдено сукровицы около одного унца.
4. В полости брюшной.
Желудок, в котором содержалось немного слизистой смеси, найден в совершенно здоровом положении; печень имела большую величину и цвета темнее натурального; желчный пузырь растянут был большим количеством испорченной желчи темного цвета; обо-дошная кишка была очень растянута содержащимися в ней ветрами. Все же прочие внутренности, как то: поджелудочная железа, селезенка, почки и мочевой пузырь нимало не отступали от натурального своего состояния.
Сие анатомическое исследование очевидно доказывает, что августейший наш монарх был одержим острою болезнью, коею первоначально была поражена печень и прочие, к отделению желчи служащие, органы. Болезнь сия в продолжении своем постепенно перешла в жестокую горячку с приливом крови в мозговые сосуды и последующими затем отделением и накоплением сукровичной влаги в полостях мозга, и была, наконец, причиною самой смерти его императорского величества».
Протокол этот скреплен следующими подписями:
1. Дмитриевского военного гошпиталя младший лекарь Яковлев.
2. Л.-Гв. Казачьего полка штаб-лекарь Васильев.
3. Таганрогского карантина главный медиц. чиновник д-р Лакиер.
4. Придворный врач коллежский асессор Добберт.
5. Медико-хирург надворный советник Тарасов.
6. Штаб-лекарь надворный советник Александрович.
7. Доктор медицины и хирургии статский советник Рейнгольд.
8. Действ, статский сов. лейб-медик Стоффреген.
9. Баронет Яков Виллие, тайный советник и лейб-медик.
Видел описанные медиками признаки и при вскрытии тела Е. И. В. Государя Императора Александра Павловича находился генерал-адъютант Чернышев. В дополнение к этому протоколу небезынтересно привести следующие, касающиеся бальзамирования тела, строки из воспоминаний Н. И. Шенига. Шениг состоял при бароне Дибиче по квартирмейстерской части.
«21-го числа, поутру, в 9 часов, по приказанию Дибича, отправился я, как старший в чине из числа моих товарищей, для присутствия при бальзамировании тела покойного государя.
Вошед в кабинет, я нашел его уже раздетым на столе, и четыре гарнизонные фельдшера, вырезывая мясистые части, набивали их какими-то разваренными в спирте травами и забинтовывали широкими тесьмами. Добберт и Рейнгольд, с сигарами в зубах, варили в кастрюлях в камине эти травы. Они провели г этом занятии всю ночь, с той поры, как Виллие вскрыл тело и составил протокол. Череп на голове был уже приложен, а при мне натягивали кожу с волосами, чем немного изменилось выражение черт лица. Мозг, сердце и внутренности были вложены в серебряный сосуд, вроде сахарной большой жестянки с крышкою, и заперты замком. Кроме вышесказанных лиц и караульного казацкого офицера, никого не только в комнате, но и во всем дворце не было видно. Государыня накануне переехала на несколько дней в дом Шихматова. Доктора жаловались, что ночью все разбежались и что они не могут даже добиться чистых простынь и полотенец. Это меня ужасно раздосадовало. Давно ли все эти мерзавцы трепетали одного взгляда, а теперь забыли и страх, и благодеяния. Я тотчас же пошел к Волконскому, который принял меня в постели, рассказал, в каком положении находится тело государя, и тот, вскочив, послал фельдъегеря за камердинерами. Через четверть часа они явились и принесли белье. Между тем фельдшера перевертывали тело, как кусок дерева, и я с трепетом и любопытством имел время рассмотреть его. Я не встречал еще так хорошо сотворенного человека. Руки, ноги, все части тела могли бы служить образцом для ваятеля; нежность кожи необыкновенная; одно только место, которое неосторожно хватил Тарасов, было черного цвета.
По окончании бальзамирования одели государя в парадный общий генеральский мундир, с звездою и орденами в петлице, на руках перчатки, и положили на железную кровать, на которой он скончался, накрыв все тело кисеею. В ногах поставили аналой с Евангелием, которое по очереди читали священники, сменяясь каждые два часа…»
Протокол вскрытия тела несомненно один из важнейших документов, с которым приходится считаться, — и на него нужно обратить особое внимание.
Казалось бы, что хоть по поводу такого документа не должно было бы быть разногласий, хотя бы с формальной стороны. На самом же деле — мы сразу наталкиваемся на противоречия, из которых одно в высшей степени важное, так как оно обнаруживает подлог.
Как мы только что видели из записок Н. И. Шенига, протокол был составлен лейб-медиком Виллие. Между тем доктор Тарасов в своих воспоминаниях утверждает, что протокол был составлен им, Тарасовым. Это противоречие, само по себе довольно интересное, может, впрочем, быть объяснено ошибкой Шенига, приписавшего авторство протокола Виллие как старшему в чине из присутствовавших медиков. Но другое противоречие ничем не объяснимо: оно, повторяю, обнаруживает, подлог. Тарасов пишет, что хотя он и составлял протокол, но не подписывал его; между тем под протоколом значится его подпись! Само собой разумеется, что Тарасов, если и мог что-либо напутать в своих воспоминаниях, не мог забыть того факта — подписывал он протокол или нет. Однако он подчеркивает то обстоятельство что хотя он и составлял протокол, но не подписывал. Этому нельзя не верить. Но каким же образом, в силу каких обстоятельств, его подпись появилась на официальном акте? Что подпись эта была необходима, это очевидно, гораздо необходимее даже подписей старших по чину Рейнгольда и Стоффрегена, т. к. Тарасов, хотя и не имевший звания лейб-медика, был в медицинском мире ближайшим после Виллие лицом к Александру I; отсутствие его подписи было бы более чем странно.
И — подпись его появилась… без его ведома! И он об этом не узнал и позже, т. к. воспоминания его, в которых он утверждает, что не подписывал, написаны много лет спустя, когда подлинник протокола с «его» подписью уже хранился в архивах.
С другой стороны, является вопрос: почему же он не подписал им же составленного протокола?
Раз подпись его была необходима, ему, очевидно, было предложено подписать; между тем он не подписал. Почему? Очевидно, он отказался. Но почему же?
Дальше, князь Волконский поручил ему бальзамировать тело. Тарасов отказался, мотивируя свой отказ «сыновним чувством и благоговением к императору».
Смею думать, что не ошибусь, если скажу, что эта мотивировка отказа со стороны врача была не более как лирической маской, прикрывавшей настоящую причину, ту самую причину, по которой он отказался подписать и протокол вскрытия тела. Какова же могла быть эта причина? Это — загадка, которую трудно разрешить, если согласиться с тем, что таганрогская драма происходила действительно так, как нам о ней говорит официальная история. Но об этом после.
Разберемся в самом протоколе.
Г. Василич в своей «Легенде о старце Кузьмиче» пишет:
«Мы почерпываем в нем (т. е. в протоколе) одно очень ценное обстоятельство, указывающее на то, что вскрыт был именно труп умершего императора Александра, а не кого-нибудь другого. Именно описание старого рубца на ноге, оставшегося от бывшей язвы, а у Александра, был именно на, этой ноге рубец от заживления после рожистого флегмонозного процесса на той же ноге. Таким образом, устанавливается сразу же тождество вскрываемого с умершим императором».
К сожалению, тождество это не сразу «устанавливается», так как нам известно, что рожистое воспаление, которым император страдал в январе 1824 г., было на левой ноге, а в протоколе упоминается о «различных рубцах, особенно на правой ноге».
Кроме того, Г. Василич (на той же стр. 112 своей книги) пишет:
«Что же касается болезни, унесшей Александра в могилу, то следует признать, хотя она не названа нигде своим настоящим именем, что это был типичный брюшной тиф».
Не знаю, какие соображения привели Г. Василича к столь категорическому заключению; что касается меня, то, не обладая познаниями по медицине, я поступил следующим образом для правильной оценки протокола.
Я переписал в нескольких копиях протокол от слов «и нашли следующее» до слов «сие анатомическое исследование очевидно доказывает» (выпустив в тексте только слова «государь император») и разослал эти копии нескольким выдающимся представителям русского медицинского мира с препроводительным письмом, текст которого считаю долгом привести полностью:
«Обращаюсь к Вам с большой просьбой, в исполнении которой, надеюсь, Вы мне не откажете. Я в настоящее время занят одним историческим исследованием, и мне, между прочим, попался один документ, представляющий из себя протокол вскрытия тела некоего лица, умершего в первое половине XIX столетия (чем и объясняется «стиль» этого документа). Будьте добры, прочтите этот протокол, копию с которого Вам присылаю, так же как и некоторые к нему примечания и — напишите мне Ваше беспристрастное заключение: от какой причины (болезни или случайности) этот человек мог скончаться. Я буду крайне признателен Вам за скорейший ответ…» и т. д.
Примечания, приложенные мною к протоколу и упоминаемые в письме, были следующие:
1. Объяснениям о происхождении некоторых пятен на теле можно верить, но также можно и не доверять. Кроме того, нужно заметить, что если эти меры и были приняты, то они были приняты за три дня до смерти; что вскрытие тела было сделано 30 часов после смерти.
2. Предполагаемые причины смерти: брюшной тиф; сотрясение мозга, происшедшее от несчастного случая, а именно — падения из экипажа при быстрой езде (почва — глины и камни); малярия; жестокое обращение (телесные наказания).
3. Вышеприведенные причины смерти могут быть ошибочны и потому должны быть приняты лишь «к сведению», а отнюдь не «к руководству». Возможно, что этот человек умер и от других причин.
Кроме вышеизложенных, я никаких примечаний или комментариев не сделал. Вторая и четвертая «предполагаемые причины смерти» были прибавлены мною ввиду высказывавшихся некоторыми лицами предположений, что вместо императора был похоронен или расшибшийся насмерть фельдъегерь Масков, или умерший от телесных наказаний солдат местного гарнизона.
Привожу полученные мною ответы:
1. «На основании присланного протокола вскрытия можно сделать весьма сомнительные предположения. Вскрытие не дает картины болезни. Из всего отмеченного в протоколе можно предположить, что смерть последовала от удара, т. е. от кровоизлияния в мозгу, но была ли тому причина болезнь или несчастный случай — из протокола не видно. Трупные пятна на теле могут быть у всякого трупа, а рубцы на ногах свидетельствуют о бывшем когда-то язвенном процессе. Можно также думать, что умерший страдал сифилисом, на что указывают сращения мозговых оболочек, рубцы на голенях и изменения в печени, впрочем, последние могли быть и самостоятельными, если покойник был алкоголик. Тиф нужно исключить, т. к. при брюшном тифе обычно бывают изменения в селезенке, опухание кишечных желез и язвы на них. Малярия тоже влечет увеличение селезенки. На телесные наказания тоже нет указаний (рубцы на ягодицах, спине и т. п.). Мое заключение не полно, но иначе и быть не может, т. к. протокол далек от научного описания и чересчур краток». (Д-р Н. И. Чигаев.)
2. «Протокол составлен не соответственно научным требованиям, так что причину смерти установить нельзя. Менее всего, однако, она могла бы зависеть от приведенных Вами 4-х NoNo, т. к.: 1) при брюшном тифе должны быть изменения в кишечнике и увеличение селезенки, 2) при малярии же — резкое увеличение последней, равно как исхудание в том и другом случае, а тут везде жир; при NoNo 2 и 4-м характерные более или менее следы, а их нет. Принимая во внимание сомнительные признаки сифилиса (рубцы на ногах, сращение оболочки мозга с черепом, описание вскрытия грудной полости, большая величина печени) — можно думать, не от него ли умер покойный». (Д-р М. М. Манасеин.)
3. «Извините, что отвечаю Вам несколько поздно, но для того, чтобы дать более определенный ответ мне нужно было показать протокол специалисту анатому-патологу. Данные, сообщаемые в протоколе, слишком недостаточны, чтобы определить причину смерти. На основании описания органов можно только с уверенностью сказать, что смерть произошла не от брюшного тифа и не от малярии. Данные же, приводимые относительно полости черепа и мозга, также слишком незначительны и не полны, чтобы усмотреть в них причину смерти». (Хирург д-р К. П. Домбровский.)
4. «Причина смерти — кровоизлияние в мозг вследствие склероза сосудов мозга на почве луэса — сращения мозговых оболочек с черепом и пр., утолщение черепных костей. — Из протокола вскрытия никак нельзя допустить смерть от тифа или малярии». (Хирург д-р В. Б. Гюббенет.)
(Курсив в текстах писем мой.)
Суммируя содержание этих писем, мы видим, что при всей трудности определить по протоколу вскрытия причину смерти смерть эта отнюдь не могла произойти ни от брюшного тифа, ни от малярии (т. е. «крымской лихорадки»).
Указания же на сифилис совершенно не совпадают со всем тем, что нам известно об Александре I.
Таким образом, протокол вскрытия, который, по мнению историков, придерживающихся официальной версии о таганрогской драме, является одним из неоспоримых подтверждений этой версии, — в действительности коренным образом подрывает доверие к ней.
Что касается записок Н. И. Шенига, они сами по себе весьма интересны, но не могут играть никакой роли в разбираемом нами вопросе, т. к. Шениг является очевидцем только тех событий, которые последовали за вскрытием тела, начиная с бальзамирования. Впрочем, фраза «немного изменилось выражение черт лица» — может быть отмечена.
Таковы документы, относящиеся к первым двум дням, последовавшим за катастрофой 19 ноября.
VI
Известие о кончине императора пришло в Варшаву к цесаревичу Константину Павловичу 25 ноября вечером, а в С.-Петербург двумя днями позже. То, что произошло затем в столице, хорошо известно.
Опрометчивая присяга Николая Павловича императору Константину, опрометчивая и ничем не объяснимая, т. к. он сам заявил членам Государственного Совета, что ему еще с 13 июля 1819 г. известно об отречении Константина; лихорадочная переписка между Варшавой и Петербургом; общая растерянность; восстание 14 декабря и наступившее затем тяжелое затишье. Таковы были результаты той таинственности, в которую облек Александр I вопрос о престолонаследии.
Обо всем этом распространяться здесь, конечно, не место, т. к. прямого отношения к разбираемому нами вопросу все эти события не имеют. Единственным прямым последствием явилось то, что князь П. М. Волконский долгое время оставался без всяких указаний что ему делать: Цесаревич известил его в дружеском письме, что все указания придут из Петербурга, а Петербург безмолвствовал.
Только 3 декабря императрица Мария Феодоровна и Николай Павлович написали Волконскому, чтобы он за всеми распоряжениями обращался к императрице Елизавете Алексеевне.
Через день Николай Павлович снова написал князю, на этот раз извещая его, что все флигель-адъютанты, не находящиеся при войсках, а также генерал-адъютант князь Трубецкой получили приказание ехать в Таганрог; на это Волконский письмом от 14 декабря ответил, что поручит перевоз тела Трубецкому.
Разбирая бумаги, оставшиеся в кабинете Александра в Таганроге, Волконский и Дибич нашли церемониал погребения Екатерины II; Шильдер по этому поводу делает предположение, что Александр взял этот документ с собой на случай смерти своей жены. С таким предположением можно соглашаться, но можно и не соглашаться: здоровье Елизаветы Алексеевны далеко не было так плохо, чтобы явилась необходимость запастись церемониалом погребения, а то обстоятельство, что это был церемониал погребения императрицы Екатерины, отнюдь не может служить подтверждением, что, взяв его с собою, Александр думал именно об императрице Елизавете Алексеевне. Если б он думал о самом себе, то он иного церемониала тоже не мог бы взять: церемониалы похорон Петра III и Павла I вряд ли нашли бы себе место среди документов Александра…
11 декабря тело было перевезено из дворца в собор Александровского монастыря, где и оставалось до 29 числа, когда печальный картеж двинулся в Петербург.
Императрица Елизавета Алексеевна не сопровождала тело, а осталась в Таганроге до 21 апреля.
Перед выступлением печальной процессии она призвала к себе д-ра Тарасова и сказала ему:
«Я знаю всю вашу преданность и усердную службу покойному императору и потому никому не могу лучше поручить, как вам, наблюдать во все путешествие за сохранением тела его и проводить гроб его до самой могилы».
Кроме того, князь Волконский, в письме к Николаю I от 4 января, сообщает, что ввиду «неприбытия сюда никого из Петербурга» императрица поручила генерал-адъютанту графу Орлову-Денисову сопровождать тело и быть, так сказать, главным распорядителем всей церемонии.
Это «неприбытие никого из Петербурга» само по себе немного странно, после того, как еще 5 декабря флигель-адъютанты и генерал-адъютант князь Трубецкой получили приказание выехать в Таганрог. Этого нельзя даже объяснить событием 14 декабря, т. к. оно имело место девять дней спустя, когда, казалось бы, все эти лица должны бы были уже находиться в пути в Таганрог. Странно также, что Елизавета Алексеевна поручила наблюдение за телом Тарасову, а не Виллие.
Через день после отбытия тела из Таганрога императрица Елизавета Алексеевна написала своей матери письмо такого содержания:
«Tous les liens terrestres sont rompus entre nous. Ceux dans leternite seront différents, ils seront plus doux, sûrement, mais tant que je porte encore cette triste enveloppe mortelle, il est douloureux de me dire qu’il n’aura plu de part a mon existence ici-bas. Amis d’enfance, nous avons marche ensemble pendant 32 ans. Nous avons traverse ensomble toutes les époques de la vie. Souvent éloignes, nous nous retrouvions toujours d’une manière ou d’une autre, enfin sur la vrai chemin, nous ne goûtions que la douceur de notre union. C’est dans ce moment qu’elle m’a ete enlevée. Sûrement je le méritais, je ne sentais pas assez le bienfait de Dieu, je ressentais peut être encore trop de petits inconvénients. Enfin quoique cela soit, Dieu l’a voulu. Qu’il daigne permettre que je ne perde pas le fruit de cette douloureuse croix — ce n’est pas pour rien qu’elle m’a ete envoyé. Je reconnais la main de Dieu dans toute la direction de ma destinée en y réfléchissant».
Я привожу это письмо исключительно с целью дать побольше документальных данных; само по себе оно не дает никаких особенно интересных указаний. Хотя нельзя не обратить внимание на немного загадочный, двусмысленный характер некоторых фраз…
Итак, 29 декабря печальный кортеж проследовал на север под общим наблюдением генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова и при непосредственном наблюдении за телом со стороны доктора Тарасова.
Маршрут шествия был таков: Харьков, Курск, Орел, Тула, Москва.
Поручение, возложенное на графа Орлова-Денисова, было не из легких. Немедленно вслед за тем, как кончина императора стала известна, по всей России внезапно распространился слух, что император не умер, а скрылся; в гробу же везут чужой труп. Что послужило причиной к зарождению и распространению такого слуха, сказать трудно: но факт тот, что слух этот принял угрожающие размеры. Опасались даже, что народ на пути следования процессии потребует вскрытия гроба. Граф Орлов-Денисов «наблюдал везде строгий порядок и военную дисциплину», как пишет Тарасов в своих воспоминаниях. (Мы знаем, что называется «строгим порядком и военной дисциплиной» даже в XX столетии, и потому легко можно представить себе, в чем они выражались сто лет назад.)
3 февраля процессия прибыла в Москву. На протяжении версты от подольской заставы по обеим сторонам дороги были выстроены войска с заряженными ружьями. Когда гроб был поставлен в Архангельском соборе, стечение народа было огромное. Ввиду тревожных слухов были приняты необычайные меры предосторожности: в 9 часов вечера запирали ворота Кремля и у каждого входа стояли заряженные орудия. Пехота расположилась в Кремле, а кавалерийская бригада — в экзерциргаузе с оседланными лошадьми. По городу всю ночь ходили военные патрули.
Интересно привести для характеристики царствовавшего настроения письма А. Булгакова к его брату.
«Не поверишь, что за вздорные слухи распространяют кумушки и пустословы по городу. Жаль, право, что князь Дмитрий Владимирович (московский генерал-губернатор Голицын) удостаивает их внимания, что много говорят о мерах, кои возьмутся для прекращения или предупреждения беспорядков. Говорят, что подписками обязывают фабрикантов не выпускать фабричных в день процессии, что кабаки будут заперты, и множество других подобных мер…» (27 января 1826 г.). «Филарет с духовенством лобзали останки бесценные, а после все царевичи, князь Дмитрий Владимирович, генерал-адъютанты и т. д. Как я буду теперь дурачить и смеяться над глупцами, кои трусили уезжать из Москвы или просили часовых для себя на это время… Благоговение народа было таково, что нельзя не быть тронуту. Надобно было видеть, с каким чувством все прикладывались. Все почти кланялись в землю. Во всю ночь были поклонщики. Ночь не была потеряна. Дабы доставить всем удовольствие приложиться к бесценному праху, впустили солдат здешнего гарнизона».
Это последнее письмо весьма курьезно. Во-первых, ни Филарет, ни царевичи (вероятно — грузинские), ни Голицын не могли «лобзать останки бесценные», т. к. гроб был закрыт и не открывался за все время нахождения его в Москве; во-вторых, как я уже упоминал выше, с 9 часов вечера все входы в Кремль были закрыты и охранялись артиллерией, так что навряд ли «были поклонщики во всю ночь». Возможно, впрочем, что таковыми поклонщиками вообще, а не только ночью, являлись «солдаты здешнего гарнизона».
В другом письме (от 7 февраля) Булгаков пишет: «А. С. Маркович, фельдъегерь, бывший при государе во время его болезни, кончины и после оной, видел все происходившее в горестное это время, обмывал драгоценное тело, дежурил четверо суток при оном, не спавши; открытие тела, бальзамировка, все это происходило в его глазах. Я не мог от него оторваться, и он, видя наше любопытство, удовлетворил оное в полной мере…»
К этому можно было бы добавить, что фельдъегерь Маркович «удовлетворил любопытство» Булгакова не только «в полной мере», но и свыше меры, т. к. он, Маркович, ни при болезни, ни при кончине, ни при «открытии тела», ни при «бальзамировке» не присутствовал и уж тем более, конечно, не дежурил «четверо суток не спавши»… В общем, письма Булгакова интересны, конечно, только поскольку они иллюстрируют тревожное настроение, царившее в обществе. К такой же категории документов нужно отнести и записку, составленную неким дворовым человеком Федором Федоровым, под заглавием «Московские Новости или новые правдивые и ложные слухи, которые после виднее означатся, которые правдивые, а которые лживые, а теперь утвердить ни одних не могу, но решился на досуге описывать для дальнего времени незабвенного, именно 1825 года, с декабря 25-го дня».
В этой записке приведены все «слухи», ходившие тогда по Москве, касательно смерти Александра.
Основная мысль большинства этих «слухов», что Александр не умер, а скрылся и что в гробу везут другое тело.
Но как письма Булгакова, так и записки Федора Федорова документы, так сказать, проблематические. Вернемся к документам более серьезным.
В записках д-ра Тарасова читаем следующее:
«Я имел особенное предписание от графа Орлова-Денисова о возможном попечении за целостью тела императора во время всего шествия. С этой целью я представил графу, что для удостоверения о положении тела императора необходимо по временам вскрывать гроб и осматривать тело. Таковые осмотры при особом комитете, в присутствии графа, производились в полночь пять раз, и каждый раз я представлял по осмотре донесение графу о положении тела».
Эти показания Тарасова совершенно не совпадают с тем, что писал граф Орлов-Денисов в официальном своем рапорте на имя барона Дибича.
Граф Орлов-Денисов сообщает, что в течении всего пути до Москвы гроб не вскрывался; что впервые он был вскрыт на пути из Москвы на север, на втором ночлеге в селе Чашошкове 7 февраля в 7 часов вечера. При этом присутствовали, кроме самого Орлова-Денисова и Тарасова, генерал-адъютанты граф Остерман-Толстой, Бороздин и Сипягин и пять флигель-адъютантов (Герман, Шкурин, Кокошкин, графы Залуцкий и Плаутин), а также полковник кавалергардского полка Арапов и вагенмейстер Соломко.
Второй осмотр был произведен по выступлении из Новгорода, причем присутствовал и граф Аракчеев.
Третий же и последний осмотр имел место в деревне Бабине, причем он был произведен Виллие, получившим на то приказание от императора Николая I.
По этому поводу Виллие пишет:
«Сего 26-го февраля в 7 часов пополудни, в Бабине, я производил осмотр тела блаженной памяти императора Александра; раскрыв его до мундира, я не нашел ни малейшего признака химического разложения, обнаруживающегося обыкновенно выделениями сернисто-водородного газа, обладающего весьма едким запахом, мускулы крепки и тверды и сохраняют свою первоначальную форму и объем. Поэтому я смело утверждаю, что тело находится в совершенной сохранности, и мы обязаны этим удовлетворительным результатом точному соблюдению во время пути необходимых мер предосторожности. Поэтому я не буду принимать никаких дальнейших мер до прибытия в Царское Село».
Из приведенных выше выдержек видно, что разногласия в документах продолжали преследовать тело до места его последнего успокоения.
Тарасов утверждает, что тело было осматриваемо пять раз в полночь. По свидетельствам же графа Орлова-Денисова (на которого тот же Тарасов ссылается) и баронета Виллие, мы видим, что тело осматривалось только три раза в 7 часов вечера, причем третий раз осматривал не Тарасов, а сам Виллие.
В день последнего осмотра тела в Тосне кортеж встретила императрица Мария Феодоровна.
Это обстоятельство, между прочим, довольно непонятно.
Бабино, где тело осматривалось в 7 часов вечера, находится на расстоянии 45 верст к югу от Тосны. Каким образом императрица могла встретить кортеж в тот же самый день в Тосне?
Во всяком случае, интересно отметить тот факт, что императрица Мария Феодоровна выехала одна, т. е. без сопровождения кого-либо из семьи, навстречу телу, проехав расстояние около 100 верст от Петербурга. Ввиду указанной мной выше явной несообразности относительно встречи в Тосне, можно предположить, что она доехала до Бабина, следствием чего и явилось новое освидетельствование тела по «приказанию императора Николая»; это объяснило бы также внезапное отстранение Тарасова и замену его баронетом Виллие.
28 февраля печальная процессия приблизилась к Царскому Селу и была встречена императором Николаем, великим князем Михаилом Павловичем, принцем Вильгельмом Прусским, принцем Оранским, первыми чинами двора, духовенством и жителями Царского Села.
Гроб был поставлен в дворцовой церкви на катафалк под балдахином.
1 марта князь А. Н. Голицын, министр духовных дел и народного просвещения, вызвал к себе Тарасова и спросил его: «Можно ли открыть гроб и может ли императорская фамилия проститься с покойным императором?»
«Я отвечал утвердительно, — пишет Тарасов в своих записках, — и уверил его, что тело в совершенном порядке и целости, так что гроб мог бы быть открыт даже для всех. Потом он (Голицын) мне сказал, что император мне приказал, чтобы в двенадцать часов ночи я, при нем и графе Орлове-Денисове, со всею аккуратностью открыл гроб и приготовил все, чтоб императорская фамилия могла вся, кроме царствующей императрицы, которая тогда была беременна, родственно проститься с покойником. В 11 час. вечера священник и все дежурные были удалены из церкви, а при дверях, вне оной, поставлены были часовые; остались в ней: князь Голицын, граф Орлов-Денисов, я и камердинер покойного императора, Завитаев. По открытии гроба я снял атласный матрац из ароматных трав, покрывавший все тело, вычистил мундир, на который пробилось несколько ароматных специй, переменил на руках императора белые перчатки (прежние несколько изменили свой цвет), возложил на голову корону и обтер лицо, так что тело представлялось совершенно целым, и не было ни малейшего признака порчи. После этого князь Голицын, сказав, чтобы мы оставались в церкви за ширмами, поспешил доложить императору. Спустя несколько минут, вся императорская фамилия с детьми, кроме царствующей императрицы, вошла в церковь при благоговейной тишине, и все целовали в лицо и руку покойного. Эта сцена была до того трогательна, что я не в состоянии вполне выразить оную.
По выходе императорской фамилии я снова покрыл тело ароматным матрацем и, сняв корону, закрыл гроб по-прежнему. Все дежурные и караул снова введены были в церковь ко гробу, и началось чтение Евангелия».
Оставляя в стороне вопрос, насколько Тарасов мог следить «из-за ширм» за происходившим в церкви, интересно отметить следующее показание прусского генерала фон Герлаха, записанное им со слов принца Вильгельма, при особе которого он состоял:
«Императрица Мария Феодоровна несколько раз поцеловала руку усопшего и говорила: «Oui, c’est mon cher fils, mon cher Alexandre! Ah! Comme il est maigri!» Трижды она возвращалась к гробу и подходила к телу».
5 марта тело было перевезено из Царского Села в Чесму, где, под наблюдением Тарасова, и было переложено в другой гроб, а на следующий день перевезено по особому церемониалу в С.-Петербург и поставлено в Казанском соборе. Здесь оно оставалось в течение семи дней, причем император Николай I, вопреки совету приближенных лиц, запретил открывать гроб «для жителей столицы», и, как пишет Тарасов, «кажется, единственно по той причине, что цвет лица покойного государя был немного изменен в светло-каштановый, что произошло от покрытия оного в Таганроге уксусно-древесною кислотою, которая, впрочем, нимало не изменила черт лица».
Приводя эту догадку Тарасова, Шильдер сопоставляет ее с приведенными уже мною выше строками из письма князя П. М. Волконского к статс-секретарю Вилламову: «…ибо хотя тело и бальзамировано, но от здешнего сырого воздуха лицо все почернело и даже черты лица покойного совсем изменились, через несколько же времени и еще потерпят…»
13 марта 1826 г. разыгрался эпилог таганрогской драмы: «В одиннадцать часов, во время сильной метели, погребальное шествие направилось из Казанского собора в Петропавловскую крепость… В тот же день происходили отпевание и погребение. Во втором часу пополудни пушечные залпы возвестили миру, что великий монарх снисшел в землю на вечное успокоение». (Шильдер, т. 4, стр. 442).
Теперь, когда мы ознакомились со всеми имеющимися документами, попробуем вывести беспристрастное заключение.
Читатель не посетует на меня, если для полноты картины я время от времени буду возвращаться к указанным уже в предыдущих главах противоречиям, недомолвкам, фактам. Мне казалось лучшим, приводя документы, параллельно отмечать то, что в них было достойным особого интереса. Теперь же, суммируя содержание всего вышеизложенного и выводя заключение, придется, конечно, поневоле припоминать кое-что уже сказанное — не подробности, а самое существенное.
В кратком предисловии к этой книге я изложил схему моего исследования: 1. Имел ли Александр I намерение отречься от престола? 2. Если он имел это намерение, то привел ли он его в исполнение в бытность свою в Таганроге, или умер, не успев осуществить это намерение?
Таковы были первые два вопроса. Первый разрешен утвердительно без всякого труда, да он, впрочем, никогда ни в ком не возбуждал сомнения. Теперь мы со всей возможной полнотой исследовали второй вопрос. Какой же беспристрастный ответ мы можем на него дать?
Я, с полным беспристрастием, взвешивая все pro и contra, отвечаю на него утвердительно: да, император Александр I воспользовался своим пребыванием в Таганроге и легким недомоганием, чтобы привести свой план в исполнение.
Он скрылся, предоставив хоронить чье-то чужое тело.
Вот причины, приведшие меня к такому убеждению.
1. Постоянные, так сказать, хронические и безнадежные противоречия, встречающиеся во всех документах, относящихся к таганрогской драме; тогда как эти документы должны бы были (я бы сказал: были обязаны!) согласоваться даже в мелких подробностях. Я уже указывал на то, что из этих документов нельзя даже почерпнуть таких краеугольных сведений о кончине Александра, как: обстоятельства, при которых наступила смерть, число лиц, присутствовавших при ней, поведение императрицы и т. п.
2. Заведомо подложная подпись Тарасова под протоколом вскрытия тела, потому что нельзя же, в самом деле, допустить, чтобы Тарасов лгал в своих записках, утверждая, что он протокола не подписывал.
3. Странное и тревожное настроение и не менее странные поступки императрицы Марии Феодоровны, императора Николая I и князя П. М. Волконского: переписка Волконского с Вилламовым; скороспелый и несомненно задним числом писанный журнал князя; запрещение Николая I открыть гроб для народа в Казанском соборе; неуместные повторные восклицания императрицы Марии Феодоровны в Царском Селе — «oui, c’est mon cher fils, mon cher Alexandre». Почему бы матери при виде тела сына понадобилось повторять такие слова, производящие впечатление — «да право же, это он…» Таинственная поездка ее же в Бабино и т. д.
4. Немедленно после смерти распространившиеся слухи, что везут чужое тело. Ведь почему-нибудь такие слухи возникли же! А ведь это слух необычный. Кончина монарха часто зарождает всякие пересуды и всевозможные комментарии, но только таганрогская драма породила такой слух. И слух этот, очевидно, показался народу настолько вероятным, что хотели насильно вскрыть гроб, а властям настолько опасным, что в Московском Кремле по вечерам приставляли артиллерию к воротам и посылали патрули по городу.
5. Исчезновение продолжения записок императрицы Елизаветы Алексеевны после 11 ноября.
Записки эти, несомненно, были писаны тоже задним числом, на что указывает хотя бы такая фраза, как «он посмотрел… с тем самым видом, который я наблюдала позже в ужасные минуты».
Продолжение это, как я уже упоминал, несомненно имелось, но оно исчезло; оно было, вероятно, уничтожено императором Николаем I. Упоминал я также и о том, что Николай I уничтожил многие документы, касающиеся именно последнего периода жизни своего брата.
6) Протокол вскрытия тела.
Я уже выше объяснял, как я поступил с копиями этого протокола. Врачи, давшие мне ответы, известны на всю Россию, а некоторые и за границей. Редкое единодушие, с которым они отрицают возможность смерти от брюшного тифа или малярии и указания троих из них, в том числе европейски известного сифилидолога М. М. Манасеина, на возможность смерти от сифилиса несомненно убеждают, что в Таганроге было вскрыто тело не Александра I. Если даже допустить, что император Александр когда бы то ни было и где бы то ни было заразился сифилисом (что совершенно не соответствует всему тому, что о нем известно), то весь ход «болезни» все-таки не соответствует такому исходу.
7) Поведение самого императора, начиная с отъезда из Петербурга; его отдельные фразы и намеки.
Вспомним хотя бы следующие из них: «Я скоро переселюсь в Крым и буду жить частным человеком. Я отслужил 25 лет, и солдату в этот срок дают отставку». Князь Волконский напоминает ему, что ему уже около 50 лет, и получает ответ: «Я слишком чувствую это и уверяю вас, что я очень часто вспоминаю об этом». По этому поводу нельзя не вспомнить слов Александра, сказанных им в Киеве еще в 1817 г.: «Когда кто-нибудь имеет честь находиться во главе такого народа, как наш, он должен в момент опасности первым идти ей навстречу. Он должен оставаться на своем посту только до тех пор, пока его физические силы ему это позволяют; по прошествии этого срока он должен удалиться… Что касается меня — я пока чувствую себя хорошо, но через 10—15 лет, когда мне будет 50 лет…»
10 и 14 ноября он повторил ту же фразу — «надо считаться с моими нервами, которые слишком расстроены и без того, а лекарство расстроит их еще больше»; 11 ноября Виллие пишет: «Когда я говорю о кровопускании, он приходит в бешенство и не удостаивает говорить со мной»; 14 ноября, отказавшись от лекарства, Александр говорит Виллие: «Я надеюсь, вы не сердитесь на меня за это, у меня мои причины»; того же числа он говорит духовнику: «Прошу исповедать меня не как императора, а как простого мирянина».
Удивительно еще одно обстоятельство. После беседы с духовником — а беседовал он, еще когда «болезнь» не предвещала ничего трагического, — он за все последующие четыре дня ни разу не выражал желания видеть священника, и при «кончине его» священник также не присутствовал. Это совершенно не похоже на Александра, который, если б он действительно умирал, конечно, потребовал к себе священника. Да и близкие к нему люди, т. е. императрица и князь Волконский, несомненно, послали бы за священником, хотя бы чтобы прочитать отходную молитву.
Я привел главные причины, убедившие меня в том, что император Александр не умер в Таганроге; опускаю много мелочей, которые читатель сам усмотрит из моих комментариев к документам.
Теперь естественно возникает вопрос: если император Александр привел свое намерение в исполнение и скрылся, то как и при каких обстоятельствах он мог это сделать?
Великий князь Николай Михайлович в своей брошюре «Легенда о кончине…» (стр. 36) приводит разговор, имевший место (в его присутствии) между Н. К. Шильдером и одним лицом, про которое великий князь пишет, что не считает себя вправе его назвать. Это лицо, оппонируя, Шильдеру «на целую серию его мистических догадок», сказало: «Я допускаю возможность всех ваших предположений по поводу исчезновения Александра, кроме одного самого основного и которое мне кажется недопустимым. Как вы допускаете, чтобы можно было «escamoter» (скрыть, подменить, сделать «фокус») тело императора?!» Приводя эту фразу, великий князь добавляет:
«Должен и я всецело присоединиться к этому мнению и сказать, что более чем сомнительно допустить возможность подмены покойника, когда этим покойником является русский государь».
«Escamoter» чей-либо труп — несомненно, задача очень нелегкая, почти невозможная, ввиду полицейских, врачебных и зачастую юридических препятствий; но — «escamoter тело императора-самодержца, когда он сам того желает, — не может встретить ни малейших препятствий. Для этого Александру достаточно было трех-четырех лиц, посвященных в его тайну. Эти лица, распределив между собой степень активного участия, должны были только найти подходящего покойника, чтобы положить его в гроб вместо императора, затем своим образом действий импонировать другим, непосвященным, заставляя ложь принимать за истину, и — наконец — хранить молчание.
В обстановке, при которой совершилось исчезновение Александра, все это было вовсе не трудно.
Где-то там, за тридевять земель, в Таганроге, в небольшом доме, при микроскопическом составе свиты и прислуги, большинство которой даже не жило во дворце, при маломальской осмотрительности и осторожности вся эта мистическая драма могла быть разыграна без сучка без задоринки, не возбуждая ни в ком ни малейшего подозрения; но, по-видимому, разыграна она была не особенно удачно: кто-то или не справился с своей задачей, или проговорился, или что-то пошло не совсем гладко; возникли подозрения, и тревожный слух сразу разнесся по всей России.
Но кто же могли быть лица, которых император посвятил в свою тайну? Это, конечно, были такие лица, без сообщничества которых он не мог привести свой план в исполнение.
Такими лицами являются: императрица Елизавета Алексеевна, ближайший друг государя генерал-адъютант князь Петр Михайлович Волконский и один из врачей — или лейб-медик баронет Виллие, или доктор Тарасов. Участие этих трех или четырех лиц было необходимо.
Посмотрим же теперь, было ли в образе действий этих лиц что-либо такое, что могло бы дать нам хотя бы косвенное указание на их сообщничество.
Во-первых, императрица Елизавета Алексеевна.
Известно, что супружеская жизнь ее была очень несчастлива; ничто не связывало этих двух людей, кроме того, что называется внешними приличиями. Каждый жил своей отдельной жизнью, своими радостями, огорчениями, увлечениями. И вот внезапно, после многолетнего отчуждения, разыгрывается поистине драматическая идиллия таганрогского уединения. Было ли то со стороны Александра желание оставить по себе хорошее воспоминание в жене, которую он, связав с собой, выбросил из своей жизни и пред которой он был виноват не менее, если не более, чем она была виновата перед ним, — или было это только желание иметь в нужную для него минуту надежного товарища, который «не выдаст», — это загадка, ключ к которой супруги унесли в могилу. Вероятнее всего, что в поездке в Таганрог играло роль и то и другое. Об этом можно заключить и из образа действий императора и из писем императрицы.
Тут мы опять можем найти указания в таинственном 11 ноября.
На этом числе, как я уже неоднократно подчеркивал, обрываются записки императрицы на фразе: «Виллие был весел, он сказал мне, что у императора жар, но что я должна войти, что он не в таком состоянии, как накануне…»
Супруги имели продолжительный разговор, содержание которого неизвестно. Но в этот же день, как я тоже уже отмечал, императрица писала своей матери письмо поражающее своей загадочностью: «Где убежище в этой жизни? когда вы думаете, что все устроили к лучшему и можете вкусить этого лучшего, является неожиданное испытание, которое отнимает у вас возможность наслаждаться окружающим…»
Что обозначают эти туманные, полные пессимизма слова? Какое явилось «неожиданное испытание, отнимающее возможность наслаждаться окружающим»? Ведь не легкое — каковым оно было тогда даже по официальным источникам — недомогание государя.
Затем, странным является ее пребывание в доме Шихматовых, куда она уехала 20 ноября до 29-го. Почему она туда переехала? Почему Волконский еще 18-го утром предупредил Шихматовых, чтобы они приготовились к приему императрицы? Если даже допустить, что ее удалили из дворца на время вскрытия и бальзамирования тела, то почему же она оставалась у Шихматовых так долго? Бели бы она оставалась до 11 декабря, то это еще можно было бы объяснить желанием ее — или князя Волконского, — чтобы она не возвращалась во дворец, пока тело не будет перевезено в собор…
Наконец, почему она, несмотря на выраженное ею намерение (в письмах к своей матери и свекрови) оставаться в Таганроге, «пока он останется, а когда он уедет, и я уеду» — не сопровождала тело в Петербург, а осталась в Таганроге еще четыре месяца. Здоровье ее было вполне удовлетворительно и уж во всяком случае более удовлетворительно, чем оно было четыре месяца спустя. Она всем распоряжалась, ездила на панихиды; «почерк ее стал тверже», как пишет император Николай I в частном письме к Волконскому.
Я не думаю утверждать, что вышеприведенные факты являются неопровержимыми доказательствами участия императрицы в исчезновении ее супруга: таких доказательств и не может существовать, конечно, а если они и существовали, то были уничтожены; но все это во всяком случае является странным, дает возможность делать известные предположения, незаметно приводящие вас к заключению, что она была да и не могла не быть посвящена в тайну Александра.
Одно лицо, которое я не могу назвать и о котором я уже упоминал, возражая мне по этому поводу в частном письме, пишет:
«Вы, вероятно, не дали себе труда прочесть внимательно все письма Елисаветы Алексеевны к ее матери, маркграфине Баденской о ходе болезни, о кончине мужа. Ведь с матерью она бы не стала «финтить», если бы она сомневалась, что тот покойник, пред которым дважды совершались в сутки панихиды, не ее муж, а другой человек…»
На это я могу ответить только одно: она и не сомневалась, что этот покойник не ее муж, а раз что по тем или иным причинам она должна была хранить тайну, то такие же другие письма она могла писать своей матери, человеку ей лично, как дочери, близкому, но совершенно чужому России, Александру и тому, что составляло семейную и династическую тайну семьи, в которую она, Елизавета Алексеевна, вступила…
Да вдобавок и дальнейшая судьба самой вдовы Александра настолько загадочна, что заслуживала бы особого исследования…
Следующим за императрицей главным действующим лицом таганрогской драмы является князь П. М. Волконский.
Я уже указывал на его переписку со статс-секретарем Вилламовым, на его настойчивые советы закрыть гроб в Таганроге; я только что упоминал о его посещении Шихматовых 18 ноября утром, после того, что он «впервые завладел постелью Виллие, чтобы быть ближе к императору», и т. п.
Но есть еще два пункта, весьма существенных для выяснения роли князя Волконского в разбираемом вопросе.
Князь П. М. Волконский оставил обширный архив дневников, записок, всевозможных документов. Часть этого архива, не представляющая почти никакого интереса, оказалась в собственной его величества библиотеке, где хранится и по сию пору, а другая, большая часть, исчезла бесследно и была, по всей вероятности, уничтожена императором Николаем Павловичем.
Второй очень загадочный пункт — это письма жены Волконского к императрице Марии Феодоровне. Эти письма Шильдер приводит без всяких комментариев и без всякого отношения к тексту своего труда в приложении к тому четвертому.
Княгиня Софья Волконская приехала в Таганрог после 19 ноября, вероятно в середине декабря.
В письме своем от 26 декабря она, между прочим, пишет (по-французски):
«Кислоты, которые были применены для сохранения тела, сделали его совершенно темным. Глаза значительно провалились; форма носа наиболее изменилась, т. к. стала немного орлиной (un peu aquilin)».
Нельзя не отметить, что это совсем не соответствует запискам Тарасова, но зато вполне совпадает с показаниями самого Волконского.
В письме от 29 декабря княгиня констатирует, что «императрица присутствовала при последней службе (перед отправлением тела в Петербург) и без посторонней помощи подошла к гробу», что указывает на весьма удовлетворительное состояние здоровья Елизаветы Алексеевны.
Но самым интересным и поистине загадочным является письмо от 31 декабря.
«Я осмеливаюсь снова взяться за перо, чтобы передать вам, государыня, с хорошей оказией подробности, о которых я узнала во время моего путешествия. Я сейчас же испытала чувство сожаления, что ваше величество не узнали о них прежде (или «вовремя», во французском тексте — «dans le temps»; может быть, автор письма хотел сказать «a temps»), так же, как и обо всех других письмах моего мужа, которые предшествовали этим, и здесь мое сожаление еще возросло после всех новых данных, которые я узнала, и после того, что я убедилась, что несколько лиц, приближенных к императору подозревали и скрывали вещь, которую мой муж мог один заметить более несомненно (plus positivement), чем другие. С его столь преданным сердцем, любившим императора в течении 29-ти лет кряду, с полным самоотречением, он мог менее чем кто-либо другой — по крайней мере, я так думаю, ошибиться по поводу того, что происходило в его прекрасной душе. Благосклонность, с которой вы соизволили, государыня, выслушать меня по поводу отрывка (un passage) из одного из писем моего мужа, которое я по тогдашним обстоятельствам (vu le moment d’alors) предпочла не показать вам во всей его полноте (или «правдивости», во французском оригинале — «j’avais évité de soumettre dans sa vérité à vos yeux»); та доброта, с которой вы изволили мне ответить и от которой, несмотря на тот момент, ничто не ускользало, останется в моей памяти, пока я буду жива; и потому я говорю самой себе теперь, что я не должна бояться ознакомить с моими письмами (т. е. — мной полученными) мать наших государей, которая не посетует на меня за мое решение сообщить ей известие тяжелое (une chose pénible), но которое она сможет доверить тому, который, быть может, найдет для себя выгодным узнать интимное наблюдение, сделанное над душевным настроением нашего возлюбленного незабвенного императора. Я должна добавить, что мой муж не знает и никогда не узнает, что я пишу это письмо и что я пересылаю вам, государыня, его письма, содержащие в себе сообщение, которое он никогда не подумает вам сделать. Но меня утешает мысль, что то, что он видел и что составляет его глубокое убеждение по этому поводу, не будет утеряно; я осмеливаюсь вам это доверить, и вы сделаете из этого то употребление, которое небо, ваша мудрость и ваше знание нашего нового государя вам подскажут. Умоляю вас, государыня, сохранить для меня эти последние письма моего мужа о несчастии, с нами случившемся, или же, если ваше величество сочтет лучшим, — передать их запечатанными моей матери…
Все, что связано с вашим возлюбленным сыном, представляет из себя воспоминание, которое я желала бы сохранить до моей смерти, но затем оно уничтожится вместе со мной; я чувствую в этом необходимость и сумею обеспечить ее заранее…
Воспоминания необходимы в том уединении, которому я надеюсь себя посвятить, когда заботы о всех моих детях мне это позволят…
Прошу вас видеть, государыня, в этом письме, написать которое мне придала смелость ваша постоянная доброта, — мое преклонение пред вашей добродетелью, мою веру в вашу душевную силу, а также уверенность, что вы никогда никому не откроете содержание этого письма…»
Что все это обозначает? Какие данные, о чем княгиня узнала? что подозревали и скрывали приближенные к Александру лица? какие письма своего мужа княгиня Волконская читала и пересылала императрице Марии Феодоровне? какое тяжелое известие сообщала она «матери государей»? Кто мог найти для себя выгодным знать интимные наблюдения Волконского?
Одно можно заключить из этого письма — это то, что дело идет о какой-то важной тайне, о которой Волконский был более осведомлен, чем другие, окружавшие императора лица: однако эти лица тоже что-то подозревали, и их подозрения явились неприятной неожиданностью. Очевидно также, что эта тайна была интимного характера, а не политического и не имела отношения к каким-либо революционным и военным заговорам, т. к. в последнем случае главным лицом, обо всем осведомленным, являлся бы не Волконский, а барон Дибич.
Кроме того, тайна эта несомненно касалась пребывания государя в Таганроге; это явствует из самого письма княгини Волконской: она пишет о письмах, полученных из Таганрога от мужа, о данных, собранных ею по дороге, о приближенных к императору, очевидно, о находящихся в Таганроге.
Но какая же, однако, могла быть тайна у Александра в бытность его в Таганроге? Мы ведь знаем почти час за часом, как и где он проводил время. Одного мы не знаем — это содержания его частных бесед с императрицей, Волконским, Виллие и Тарасовым; только эти лица неоднократно оставались с ним с глазу на глаз…
Перейдем к той роли, которую могли играть в исчезновении императора доктора Виллие и Тарасов.
Привлечение к делу одного из них, а может быть и даже вероятнее, обоих являлось необходимым.
Спокойный и сдержанный англичанин Виллие мало чем себя выдал, разве что своим задним числом писанным дневником и в особенности согласием совершенно стушеваться после подписания протокола вскрытия тела до самого привоза тела в Бабино. По тому официальному положению, которое он занимал, он, конечно, должен был играть первенствующую роль в последовавших после 20 ноября событиях; между тем о нем нигде не упоминается, и даже наблюдение за перевозом тела императрица Елизавета Алексеевна поручает не ему, а Тарасову. Последний пункт меня настолько поразил, что я предположил было, что Виллие уже не было в Таганроге, когда печальный кортеж двинулся на север. Однако лицо, о котором я уже упоминал, не считая себя вправе назвать его имени, засвидетельствовало мне, что Виллие оставался все время в Таганроге и следовал затем за кортежем.
Но какую же роль играл доктор Тарасов, автор записок?
Документально мы знаем только следующее:
1) Тарасов был призван к императору лишь 14 ноября.
2) Он отказался вскрывать и бальзамировать тело, но составил протокол вскрытия, который опять-таки отказался подписать, следствием чего было появление его заведомо подложной подписи, и —
3) Императрица Елизавета Алексеевна поручила ему наблюдать за перевезением тела.
К этому еще можно добавить, что он является автором воспоминаний, в которых почти все время противоречит другим официальным документам и которые были напечатаны в «Русской старине» в 1871—1872 гг., т. е. как раз в тот самый период времени, когда возникли слухи о тождестве старца Федора Кузьмича с Александром I.
Вот все, что можно сказать о Тарасове с документальной точностью, вернее, о его роли в таганрогской драме.
Мне лично кажется, что Тарасов был посвящен в тайну, но в последнюю минуту. Не обладая хладнокровием и выдержкой своего английского коллеги, он, вероятно, что называется «заартачился», в пределах возможности, конечно, и выразил свой протест именно отказом подписать протокол и произвести бальзамирование; дальше — его «урезонили», тем более что он, в сущности говоря, ничего и не мог поделать против воли императора и таких лиц, как императрица, Волконский и Виллие. Для того же, чтобы его окончательно «задобрить», ему предоставили на вид очень важную роль — наблюдать за перевозом тела, безвозвратно обязав его, таким образом, хранить молчание.
Спешу еще раз повторить, что это только мои предположения.
Вот все, что можно сказать, не давая слишком большого простора фантазии, о лицах, посвященных в тайну.
Теперь, прежде чем закончить эту главу и вместе с тем первую часть этой книги, нам остается разобраться, поскольку возможно, еще в одном вопросе: чье тело было похоронено вместо императора Александра I?
Этот вопрос, в сущности говоря, — второстепенной важности.
При твердо выраженной воле императора в большом городе не трудно было, в конце концов, подобрать в одном из госпиталей подходящего более или менее покойника. Розыски, конечно, начались исподволь, вероятно с 11 ноября, и когда нашли то, чего хотели, тогда и была инсценирована последняя картина драмы. Если это было именно так, то розыски заняли семь дней. 17-го Волконский привел розыски к желанным результатам, в ночь на 18-е «завладел постелью Виллие, чтобы быть ближе к императору», т. е. для того, чтобы окончательно уговориться о приведении плана в исполнение; выработав все детали, он 18-го утром озаботился приисканием помещения для императрицы в доме Шихматовых, и — 19-го утром император «умер» в присутствии одной только императрицы, пока Волконский и Дибич заблаговременно опечатывали бумаги в его кабинете.
Привоз чужого трупа и исчезновение императора, вероятно, состоялось в ночь с 19-го на 20-е, может быть и раньше. Официальные документы хранят молчание о том, что происходило во дворце с 11 часов утра 19 ноября до 7 часов вечера 20 ноября.
Но чье же тело, однако, могло быть подложено?
Существуют три предположения.
Первое — наиболее распространенное и, в сущности говоря, наименее вероятное — указывает на тело фельдъегеря Маскова, умершего, как известно, 8 ноября при падении из экипажа по дороге в Таганрог. Я уже приводил (глава II) подробности этого печального события по «Воспоминаниям» Д. К. Тарасова.
Великий князь Николай Михайлович в своей брошюре «Легенда о кончине императора Александра I» дает по этому поводу следующие интересные сведения.
«Во время моих бесед с покойным Николаем Карловичем Шильдером он неоднократно останавливался на этом случае и обращал мое внимание на заметку Тарасова. После ряда усилий, чтобы найти кого-либо из потомков убившегося фельдъегеря Маскова, Шильдеру удалось напасть на след некоего Аполлона Аполлоновича Курбатова, профессора химии в технологическом институте. Я лично пригласил профессора к себе, и вот что он мне передал в 1902 г., вскоре после кончины самого Шильдера. А. А. Курбатов приходился по матери своей внуком фельдъегеря Маскова, и у них в семье сложилось не то убеждение, не то предположение, что будто бы дед их, Масков, похоронен в соборе Петропавловской крепости, вместо императора Александра I, что это предание ему, профессору, тоже известно и что дети Маскова допускали возможность такого предания. К сожалению, все дети Маскова давно умерли, их было пять, два сына и три дочери, также не было в живых отца А. А. Курбатова, Аполлона Митрофановича, скончавшегося в 1857 г., и его жены, Александры Николаевны, рожденной Масковой, умершей в 90-х годах. Сам профессор (в то время уже пожилой человек), скончался в 1903 г. Других потомков, как сыновей Маскова, так и остальных его дочерей, мне не удалось отыскать. Во всяком случае курьезно, что такого рода предание могло вообще существовать и, по показанию профессора Курбатова, оно хранилось в семье в тайне и по понятным причинам избегалось к оглашению. В Московском Лефортовском архиве я нашел не только формулярный список Маскова, но и подробное донесение капитана Михайлова командиру фельдъегерского корпуса майору Васильеву, писанное 6 ноября 1825 г. из Таганрога. Оно схоже с рассказом Шильдера и с описанием Тарасова, но, кроме того, указано точно место, где похоронен фельдъегерь Масков, а именно в том селении, где случилось с ним несчастье: «4-го числа ноября предан земле в сем же означенном селении при фельдшере Велыпе, который был послан по приказанию начальника главного штаба его Высокопревосходительства генерал-адъютанта Дибича из города Орехова». Семейству Маскова пожаловано было, по Высочайшему повелению, полное содержание, которое он получал при жизни, и, кроме того, несколько раз отпускалась сумма на уплату долгов, а младшая дочь, Александра (впоследствии Курбатова), определена была на казенное содержание в мещанское училище благородных девиц».
Следовательно, вне всякого сомнения, что тело погибшего фельдъегеря Маскова было похоронено на другой день после происшествия, т. е. 4 ноября, за 15 дней до кончины государя».
В этом рассказе великого князя Николая Михайловича интересен, конечно, тот факт, что в семье Маскова существовало убеждение относительно погребения убившегося фельдъегеря в усыпальнице императорской фамилии.
Почему такое предположение, обратившееся с годами в убеждение, могло возникнуть?
За вероятность такого предположения мог бы свидетельствовать самый факт его возникновения. В самом деле: умирает фельдъегерь от несчастного случая, две недели спустя умирает император. Ни по обстоятельствам, ни по времени, протекшему от одной смерти до другой, казалось бы, нельзя было найти ни малейшего повода для предположения, что тело Маскова было погребено вместо императора. Между тем в семье появляется убеждение, что это именно так было, и убеждение это не выносится, так сказать, на улицу, а наоборот — держится в глубочайшей тайне; следовательно, нельзя заподозрить никаких корыстных целей. С другой стороны, мы видим, что семья Маскова осыпана из ряда вон выходящими милостями. Ей в виде пенсии оставляют полностью получавшееся Масковым жалованье, а позже уже Николай I несколько раз уплачивает долги семьи погибшего фельдъегеря, и дочь его определяется в училище на казенный счет. Странным тоже может показаться тот факт, что Маскова похоронили, вопреки обычаю православной церкви, на следующий же день после смерти, в присутствии какого-то фельдшера, специально командированного бароном Дибичем.
Если прибавить к этому еще «необыкновенное выражение в чертах лица государя» при получении известия о смерти Маскова, то предание, хранящееся в его семье, несомненно, приобретает некоторое правдоподобие.
С другой стороны, весьма веским аргументом против такого предположения является продолжительность промежутка времени между 4 и 19 ноября. Если Масков умер 3 ноября, то зачем понадобилось императору отложить исполнение своего плана до 19-го, раз что ему пришла мысль похоронить вместо себя Маскова? Да и как могли бы сохранить и тайно перевезти в Таганрог труп умершего фельдъегеря? Тайно перевезти — это еще, конечно, было возможно, но сохранить в течение двух недель?
Возможно такое объяснение: что Масков не умер 3 ноября, а позже, ближе к 19-му; что 4 ноября похоронили в присутствии фельдшера пустой гроб, и что Тарасов, опубликовавший свои воспоминания уже после того, как он был посвящен в тайну Александра I, умышленно придумал всю сцену своего доклада императору о смерти Маскова.
Но такое объяснение малоправдоподобно.
Вдобавок, этому противоречит и самый протокол вскрытия тела, не указывающий на повреждение черепных и иных костей.
Второе предположение о том, чье тело могло быть похоронено вместо Александра, таково: присужденный к телесным наказаниям солдат таганрогского гарнизона не вынес «шпицрутенов» и умер; воспользовались его трупом. Это предположение тоже более чем сомнительно, т. к. тоже не соответствует протоколу вскрытия тела.
Самым правдоподобным является третье предположение, которого придерживался и Н. К. Шильдер, — что похоронено было тело одного солдата (или фельдфебеля) Семеновского полка, находившегося и умершего случайно в Таганроге; причем человек этот имел некоторое сходство с императором Александром.
Мне лично неизвестно, на каких точных данных основывал покойный историк свою гипотезу; надо полагать, что какие-нибудь данные у него были о пребывании и смерти этого солдата в Таганроге. Во всяком случае, если его догадка покоилась на каких-либо основаниях, то она является, конечно, самой правдоподобной, т. к. несомненно похоронено было тело кого-то, умершего за день до 18-го ноября и более или менее похожего на императора, скорее… менее, если судить по письму княгини Волконской (провалившиеся глаза, немного орлиный нос).
Быть может, важную роль сыграл в этом доктор Александрович, о котором нигде не упоминается, кроме частного письма из семьи Ших-матовых, и чья подпись фигурирует под протоколом вскрытия; быть может, ему, как «штаб-лекарю», т. е. главному местному врачу, была поручена миссия подыскать в одном из госпиталей нужного покойника. Появился он во дворце впервые 18 числа, по шихматовским письмам, для подачи медицинской помощи; но ни Виллие, ни Тарасов, ни князь Волконский о нем не упоминают, хотя, казалось бы, что будь он призван профессионально», они должны были об этом упомянуть.
Это, конечно, из области предположений, но предположений возможных.
В конце концов, повторяю, что, так или иначе, найти чужое тело было нетрудно, раз того желал император с молчаливого согласия императрицы, Волконского и Виллие; а чье именно тело было подложено, это уже вопрос второстепенный.
Воля царственного мистика была исполнена и сохранена в тайне, опять-таки — более или менее в тайне… Слухи возникли еще почти у открытого гроба, и войска с артиллерией во главе охраняли во время шествия на север эту плохо охраненную тайну…
VII
Осенью 1836 г. в окрестностях города Красноуфимска (Пермской губ.) к находившейся там кузнице подъехал верхом на красивой лошади пожилой мужчина лет шестидесяти и просил подковать лошадь. Кузнец, выполняя заказ, вступил в то же время в разговор с проезжим: куда и откуда он едет, как звать и т. д. На все эти вопросы старик отвечал неохотно и уклончиво. Такой образ действий проезжего, а также его барские манеры, не соответствовавшие его крестьянскому кафтану, — все это вместе возбудило подозрения кузнеца. Собралась понемногу толпа, которая в конце концов и повела незнакомца в город на допрос.
На допросе он отказался дать какие-либо сведения о себе, кроме того, что он не помнящий родства бродяга по имени Федор Кузьмич. Однако его наружность, манера говорить и держаться заставили допрашивавших его лиц отнестись к нему с большой мягкостью и осторожностью. Его всячески старались убедить открыть всю правду, дабы не подвергнуть его последствиям закона о бродяжничестве; но он упорно стоял на своем. Результатом этого упорства было то, что его наказали двадцатью ударами плети и сослали на поселение в Томскую губернию.
Ко времени этого допроса в Красноуфимске следует, по всей вероятности, отнести следующий рассказ крестьянки Феклы Степановны Коробейниковой, слышанный ею от самого Кузьмича.
«По какому-то случаю дано было знать императору Николаю Павловичу, и по распоряжению его величества был прислан великий князь Михаил Павлович. Он по приезде своем в город прямо явился в острог и первого посетил старца Федора Кузьмича и сильно оскорбился на начальствующих, хотел их привлечь к суду, но старец уговорил великого князя оставить все в забвении. Просил также, чтобы его осудили на поселение в Сибирь, что также было исполнено». 26 марта 1837 г. Федор Кузьмич прибыл с 43 партией ссыльных в Боготольскую волость Томской губернии и был помещен на жительство на казенный Краснореченский винокуренный завод, хотя и был приписан к деревне Зерцалы. Как во время переезда, так и во время пребывания его на заводе с ним обращались очень хорошо. Смотритель завода его очень любил, доставлял ему все необходимое и не назначал его ни на какие работы. Такое же отношение к нему было и со стороны служащих и рабочих. Прожил он на заводе около пяти лет, а в 1842 г. переехал в Белоярскую станицу, в избу, нарочно для него выстроенную казаком Семеном Николаевичем Сидоровым.
Родственник этого Сидорова — вероятно, брат, — Матвей Николаевич Сидоров, рассказывал впоследствии, что какая-то высокопоставленная особа, по имени Мария Федоровна, присылала старцу одежду и деньги {Императрица Мария Феодоровна скончалась в 1828 г.; так что, если рассказ M. H. Сидорова имеет в виду именно ее, то это может относиться только к первым годам после таганрогской драмы или же к ее посмертной воле.}.
Прожил он у Сидоровых всего несколько месяцев, т. к. крестьяне соседних деревень постоянно посещали его, обращались к нему за советами, старались переманить его каждый в свою деревню, словом — мешали его уединению. Он переехал на место своей приписки, в деревню Зерцалы, и поселился в общей избе у отбывшего срок наказания каторжанина Ивана Иванова, человека очень бедного, скромного и добродушного; но здесь повторилось то же, что было у Сидоровых, — ему не давали покоя. Иванов, заметя это, построил для него отдельную келью вне деревни, куда старец и переехал, но жил там только урывками, постоянно отлучаясь в соседние деревни.
Кроме того, в первое лето (1843 г.) он ушел в Енисейскую тайгу на золотые прииски Попова, где и проработал несколько месяцев. Приисками управлял тогда некто Асташев, впоследствии известный золотопромышленник, чей сын, между прочим, служил в гвардии, был хорошо известен в высшем петербургском кругу и, если не ошибаюсь, был даже флигель-адъютантом.
Асташев выделял Федора Кузьмича из числа всех служащих на приисках и отзывался о нем с большим уважением.
Шесть лет спустя старец снова переменил свое местожительство и переехал на берег реки Чулвин, в двух верстах от села Краснореченского. Там ему была приготовлена келья богатым и очень популярным крестьянином Иваном Гавриловичем Латышевым на его пасеке.
У Латышева он прожил восемь лет, но не на одном месте: так, в 1851 г. он просил Латышева перенести его келью в тайгу, в 10 верстах к северу от села Краснореченского, вблизи деревни Коробейниковой; а в 1854-м снова перебрался на Красную речку, где опять-таки Латышев построил ему другую келью, в стороне от дороги, в чаще, на обрыве.
За этот период его жизни популярность его все больше и больше возрастала; он же сам обнаруживал все большую и большую склонность к уединению. Иногда он сидел по целым дням, запершись у себя в келье; очень мало кого принимал, а если с кем и беседовал, то большей частью вне кельи; почти совсем перестал посещать соседние деревни, чем глубоко огорчил крестьян, привыкших видеть в нем наставника и советника. Во время посещения деревень он обучал грамоте, Священному писанию, истории, географии, давал ценные указания по сельскому хозяйству и земледелию в особенности.
К пребыванию его у Латышева относятся следующие рассказы о нем современников и лиц, знавших его.
«К Федору Кузьмичу заходили многие приезжающие; из них были и люди благородные, высокие. Это беспокоило Федора Кузьмича. Однажды Федор Кузьмич, поднявшись на верх кельи, заметил в трубе что-то положенное, крайне смутился этим и, огорчась, сказал хозяину: «Зачем это мне положили неподобающее мне?»
А что это было, рассказывавшая не могла объяснить, потому что Федор Кузьмич не объяснил и на вопрос хозяина отвечал: «Нет, панок, это запечатано», т. е. это его тайна, которую нельзя открыть».
«Федор Кузьмич обладал большой физической силой: так, при метании сена поднимал на вилы чуть не копну сена и метал это на стог, не опирая конца вил сперва в землю, как обыкновенно это делают метатели сена, а поднимал всю тяжесть на руках, что приводило в удивление зрителей». (Преосвященный Макарий, епископ Томский и Барнаульский, со слов одной старицы, лично знавшей Федора Кузьмича.)
Крестьянин села Боготол, Булатов, который неоднократно посещал Федора Кузьмича, человек весьма почтенный и словам которого можно верить, высказывал о старце Федоре Кузьмиче мнение как о важном лице, принявшем на себя добровольно обет молчания и со смирением переносившем все наказания и лишения ссыльного. Он нисколько не скрывал ходячего в этом краю мнения некоторых, что это никто другой, как император Александр I, но положительных доказательств этого последнего никто привести не мог.
«Преосвященный Афанасий, епископ Иркутский, в бытность свою в селе Краснореченском пожелал видеться со старцем и попросил у хозяина, Латышева, лошадь; запрягли лошадь в маленькую одноколку и тотчас же послали за старцем. Когда старец подъехал к латышевскому крыльцу, владыка вышел встретить его на крыльцо. Выйдя из одноколки, старец Федор поклонился архиерею в ноги, а владыка старцу, причем они взяли друг у друга правую руку и поцеловали, как целуются между собой священники. Затем преосвященный, уступая дорогу старцу, просил его идти вперед, но старец не соглашался; наконец, владыка, взял старца за правую руку, ввел его в горницу, где раньше сам сидел, и начал с ним ходить, не выпуская его руки, как два брата; долго они так ходили, много говорили, даже не по-нашенски, не по-русски, и смеялись. Мы тогда стали дивиться, кто такой наш старец, что ходит так с архиереем и говорит не по-нашенски».
(Упоминаемый в этом рассказе преосвященный Афанасий после этой первой встречи неоднократно приезжал к Федору Кузьмичу из Иркутска, останавливался в его келье и проживал у него иногда по несколько дней.)
«Старец называл себя бродягой и говорил, что картины свои купил у какого-то князя Волконского».
(Картины, о которых тут говорится, две гравюры; одна из них, изображающая икону Почаевской Божьей Матери в чудесах, интересна тем, что на ней есть инициалы AI на престольных облачениях в тех изображениях чудес от иконы, которые совершались в храме. Гравюра напечатана в 1855 г. с дозволения цензора, протоиерея Петра Велицкого, но где, неизвестно, т. к. левый нижний угол гравюры сгорел в 1887 г. по неосторожности купца Хромова, у которого гравюра хранилась после смерти старца. О каком князе Волконском идет речь, мне доискаться не удалось; во всяком случае, не о генерале-адъютанте князе П. М. Волконском и не о декабристе, т. к. обоих их уж не было в живых в конце 50-х годов.)
«Однажды на пасеке Латышева у него был граф Толстой, который приехал к нему утром, просидел до позднего вечера, но о чем говорили они между собой — неизвестно».
«Однажды старец Федор приходит к Парамонову (церковный староста в с. Краснореченском). У Парамонова в это время жил солдат Оленьев, занимавшийся сапожным мастерством. Увидав из окна проходившего в дом Федора Кузьмича, Оленьев спросил у бывших в избе крестьян: «Кто это?» затем, бросившись в избу вперед старца с криком: «Это царь наш, батюшка Александр Павлович!» — отдал ему честь по-военному; тогда старец сказал ему: «Мне не следует воздавать воинские почести, я бродяга; тебя за это возьмут в острог, а меня здесь не будет; ты никому не говори, что я царь».
«Однажды со старцем был такой случай: недалеко от его кельи работники Латышева производили какие-то полевые работы и при этом пели песни. Вдруг они запели песню, начинающуюся словами:
Ездил русский белый царь,
Православный государь
Из своей земли далекой
Злобу поражать…
Во время пения старец Федор Кузьмич сидел на завалинке у своей кельи. Лишь только он услышал вышеприведенную песню, он задрожал, заплакал и ушел в свою келью, а затем подозвал одного из латышевских рабочих, приказал прекратить пение, а после просил Латышева, чтобы он не позволял своим рабочим петь песни об Александре I».
«К Василию Ускову хаживал поселенец, плотник Семен Андреев, который часто бывал у старца Федора Кузьмича. Он рассказывает: бывало пойдешь с Федором Кузьмичем гулять по полю или лесу, а он идет и про себя под нос бурчит: «Был царь, теперь бродяга, живу в бедности».
«Отец Георгий Белоусов слышал о том, что проходивший в партии ссыльных солдат узнал в старце Федоре императора Александра и пал перед ним на колени. Федор Кузьмич поспешил поднять его на ноги и просил никому не говорить, кто он; но солдат не послушался и рассказал».
«Однажды при починке рамы окна кельи Федора Кузьмича его сильно беспокоили. Старец не вытерпел и, рассердившись, гневно сказал: «Перестаньте! если бы вы знали, кто я, вы бы не осмелились меня так беспокоить. Стоит мне написать одну строчку в Петербург, и вас на свете не будет».
«Латышевы говорили, что Федор Кузьмич московский старообрядческий архиерей, скрывающийся здесь от полиции».
(Это последнее предположение во всяком случае неправильно, т. к. Федор Кузьмич неоднократно подчеркивал свою непринадлежность к духовному званию.)
«Отец Георгий Белоусов говорил, что старец Федор Кузьмич не причащался, потому, как он сам говорил о себе, что он уже отпет».
«Федор Степанович Голубев свидетельствует, что старец сказал ему: «Многие говорят про меня, что я из архиереев, напрасно они говорят это, я из людей гражданских». В это время в солдатской казарме, недалеко от кельи, играла музыка. Старец сказал: «Вот, любезный, нынче и музыка-то другого направления; а в старину была хуже». Видно было, что он понимал хорошо музыку».
За время пребывания старца у Латышева он, как я уже упоминал выше, мало кого принимал и посещал и искал уединения. Однако среди местных крестьян некоторые пользовались его расположением: два его бывших квартирохозяина Иван Иванов и казак Сидоров, семья крестьянина Ивана Яковлевича Коробейникова, семья Латышева и семья крестьянина Ивана Федотовича Ерлыкова (из деревни Мазуля, Ачинского округа).
Но самым близким его другом была одна бедная сирота, крестьянка Александра Никифоровна, которая познакомилась с ним, когда ей было всего еще двенадцать лет, и которой он заменил умерших родителей.
История этой девушки в высшей степени любопытна с точки зрения интересующего нас вопроса.
Проведя свое детство около старца, она переняла от него то, что можно было бы назвать почти религиозной манией, и решила отправиться странствовать по русским монастырям. Ее братья всячески старались отговорить ее и хотели выдать ее замуж. Но она настояла на своем и в 1849 г., снабженная старцем подробными сведениями о маршруте путешествия, о монастырях, о лицах, оказывающих гостеприимство странникам, пустилась в далекий путь…
«Как бы мне увидать царя?» — говорила она старцу, расспрашивая его о разных высокопоставленных лицах.
«Погоди, — задумчиво отвечал он, — может быть, и не одного царя на своем веку увидать придется, Бог даст и разговаривать с ним будешь…»
Этим словам Федора Кузьмича суждено было, в силу тех или иных обстоятельств, сбыться. Следуя данной ей инструкции, Александра Никифоровна разыскала в Почаеве графиню Остен-Сакен и, прожив там несколько дней, приняла приглашение графини поехать вместе с нею в Кременчуг, где находился муж графини, известный своим благочестием граф Дмитрий Ерофеевич и его семья. Молодая сибирячка очень понравилась Остен-Сакенам, и они приютили ее у себя на несколько месяцев.
Случилось так, что как раз, когда Александра Никифоровна жила у графа, приехал в Кременчуг император Николай и тоже остановился у Остен-Сакенов. Она была ему представлена и, по-видимому, тоже завладела его симпатией. Он с нею долго беседовал, расспрашивая о Сибири.
Александра Никифоровна, бойкая и смышленая девушка, нисколько не растерялась от такой, казалось бы, удивительной для нее встречи и отвечала императору на все его вопросы. «Вот, — говорит государь Остен-Сакену, — какая у тебя смелая гостья приехала». — «А чего же мне, говорю, бояться? Со мной Бог, да святыми молитвами великий старец Федор Кузьмич, а вы все такие Добрые: ишь как меня угощаете!»
Граф только улыбнулся, а Николай Павлович как бы насупился.
Покидая Кременчуг, император велел Остен-Сакену дать девушке записку-пропуск на случай, если бы она поехала в Петербург.
«Если будешь в Петербурге, — сказал он Александре Никифоровне, — заходи во дворец, покажи ту записку и нигде не задержат, — рассказала бы мне о своих странствованиях; если будет тебе в чем нужда, обратись ко мне, я тебя не забуду».
Этот рассказ Александры Никифоровны (цитируемый также Г. Василичем в его книге), несмотря на его, казалось бы, анекдотичность, совершенно правдив, так же как и продолжение его, принимающее почти, как справедливо замечает Г. Василич, сказочный характер. Продолжение это касается ее второй поездки и ее замужества; я приведу его после.
Запиской, выданной ей по высочайшему повелению графом Остен-Сакеном, Александра Никифоровна не имела случая воспользоваться, т. к. в Петербург не поехала, а, прожив три месяца у графа и посетив несколько окрестных монастырей, вернулась восвояси.
Вот как она описывает свою встречу с Федором Кузьмичем (цитирую по книге Г. Василича «Император Александр и старец Федор Кузьмич»).
«Долго обнимал меня Федор Кузьмич, прежде чем приступить ко мне с расспросами о моих странствованиях, и все-то я рассказывала ему, где была, что видела и с кем разговаривала: слушал он меня со вниманием, обо всем расспрашивал подробно, а потом сильно задумался: смотрела я на него, смотрела, да и говорю ему спроста: «Батюшка Федор Кузьмич! Как вы на императора Александра Павловича похожи!» Как я только это сказала, он весь в лице изменился, поднялся с места, брови нахмурились, да строго так на меня: «А ты почем знаешь? кто тебя научил так сказать мне?» Я и испугалась. «Никто, — говорю, — батюшка, — это я так, спроста сказала; я видела во весь рост портрет императора Александра Павловича у графа Остен-Сакена, мне и пришло на мысль, что вы на него похожи и так же руку держите, как он».
На это старец ничего ей не ответил, а вышел в другую комнату, заплакал и утирал слезы рукавом рубашки.
Помимо всех вышеприведенных рассказов имеются еще следующие сведения о пребывании старца у Латышева.
Он вел обширную переписку с разными лицами и постоянно получал всякие известия о положении дел в России, но тщательно скрывал чернила и бумагу. Вставал он очень рано, но как он проводил свободное время, никто не знал, т. к. келья была заперта. В молитве? В писании писем? Вероятнее всего — ив молитве, и в писании писем.
Пища его была самая скромная: сухари и вода, но он никогда не отказывался, когда его угощали, не только от рыбы, но даже и от мяса. «Я вовсе не такой постник, за какого ты принимаешь меня», — сказал он однажды одной из своих почитательниц.
Всякого рода советы давал он безвозмездно; разговаривал с незнакомыми всегда стоя или прохаживаясь по комнате, держа руки на бедрах или придерживая одной рукой грудь. Были у него две знакомые старушки, пришедшие в Сибирь вместе с ним в одной партии, новгородские огородницы, крепостные; он часто посещал их. 30 августа (в день Александра Невского) старушки заготовляли в его честь незатейливое деревенское пиршество, и он проводил у них целый день. В таких случаях он бывал всегда в немного приподнятом настроении, вспоминал о Петербурге: «Какие торжества были в этот день в Петербурге! Стреляли из пушек, развешивали ковры, вечером по всему городу было освещенье!..»
Вообще, пишет Г. Василич, знание петербургской придворной жизни и этикета, а также событий начала нынешнего (19-го) и конца прошлого (18-го) столетий он обнаруживал необычайное; знал всех государственных деятелей и высказывал иногда довольно верные (это зависит от точки зрения, добавлю я от себя) характеристики их. С большим благоговением отзывался он о митрополите Филарете, архимандрите Фотии и др. Рассказывал об Аракчееве, его военных поселениях, о его деятельности, вспоминал о Суворове, Кутузове и пр. Замечательно, что Федор Кузьмич никогда не упоминал об императоре Павле I и не касался характеристики Александра Павловича. Только события, тесно связанные с именем этого императора, неизбежно должны были вызывать в нем некоторые суждения.
VIII
По возвращении Александры Никифоровны из России ей не было отбоя от женихов, да и братья ее продолжали настаивать на ее замужестве; но она по-прежнему посвящала все свое время заботам о старце, который, в свою очередь, руководил ее поступками.
— Погоди, — говорил он ей, — успеешь еще выйти замуж. За твою доброту Бог не оставит тебя, и царь позаботится наградить тебя за твое обо мне попечение.
— Не трогайте ее, — убеждал он ее братьев, — она не останется на вашей шее и не будет нуждаться в вашем хлебе, сам царь наградит ее своей казной.
В конце 1857 г. он снаряжает свою любимицу на богомолье в Россию и снова снабжает ее всевозможными сведениями о различных лицах; особенно настаивает он на том, чтобы она посетила в дальних пещерах Киево-Печерской лавры некоего схимника Парфения.
— А что, Сашенька, ты меня не боишься?
— Что же мне вас бояться-то, Федор Кузьмич, ведь вы ласковы всегда ко мне были, да и других-то никого не обижаете.
— Это только теперь я с тобой такой ласковый, а когда я был великим разбойником, то ты, наверное, испугалась бы меня.
Привожу дальнейшее описание путешествия Александры Никифоровны по книге Г. Василича, который, в свою очередь, приводит его по запискам самой молодой женщины. При этом Г. Василич, как я уже упоминал, справедливо замечает: «История Александры Никифоровны принимает уже совершенно сказочный характер, напоминая собой сверхъестественные приключения героев «Тысячи и одной ночи». Тем не менее достоверность дальнейших событий вполне подтверждается неопровержимыми фактами и заставляет только удивляться».
Вот подробности путешествия.
Все, на кого указывал ей Федор Кузьмич, принимали ее с особенным гостеприимством, указывали дальнейший путь и ограждали от разных случайностей. В Петербурге через генерала (фамилию его она забыла) ей пришлось проехаться в Валаам на одном пароходе с покойной императрицей Марией Александровной, которая, узнав от своих фрейлин о том, что на пароходе находится молодая сибирячка, пригласила ее к себе и долго разговаривала о Сибири.
В Киеве она разыскала отца Парфения, который, между прочим, сказал ей:
— Нечего тебе делать в Сибири. Оставайся здесь, поговей у меня, а когда причастишься Святых Тайн, я скажу тебе, куда отправиться.
Исполнив его приказание, Александра Никифоровна пришла к нему за советом.
— Если кто-нибудь будет звать тебя в Почаев, то поезжай туда, — сказал отец Парфений, — и приходи ко мне, я благословлю тебя.
— Но я уже была там.
— Все равно поезжай.
На другой день в церкви по окончании службы она встретила какого-то пожилого офицера, который пристально на нее смотрел и в конце концов спросил ее:
— О чем вы так горько плакали?
— Не знаю, куда идти: хочется воротиться домой, а старец Парфений советует отправиться в Почаев.
— Пойдемте вместе в Почаев, — ответил офицер, — я тоже туда иду; а теперь пойдемте ко мне чая кушать.
— А вы семейный? — спросила она в замешательстве.
— Да, у меня большое семейство. Не бойтесь, у меня останавливаются разные странницы. Меня здесь все знают. Я майор Федоров.
Войдя в дом майора, она тотчас увидела все его семейство: это была целая толпа странниц и странников… Дня через два майор собрался ехать в Почаев. Александру Никифоровну очень беспокоила мысль, что она не имеет паспорта, потому что старому срок давно уже истек…
— Я ваш паспорт, — заметил ей по этому поводу майор, — со мной можете быть совершенно спокойны, вас никто не обидит. Пойдемте.
По прибытии в Почаев, по совету майора, Александра Никифоровна остановилась у двух старушек, ему знакомых. На другой день, после обедни, приходит какой-то монах и просит Александру Никифоровну пожаловать к преосвященному Исидору (тогдашнему экзарху Грузии, приезжавшему в Почаев и жившему там по несколько недель).
«Зачем я к нему пойду? ведь преосвященный меня не знает. Не обман ли это какой?» — а потому и отказалась от приглашения. Через несколько минут монах вернулся и повторил просьбу преосвященного; тогда, скрепя сердце, отправилась Александра Никифоровна к нему.
Преосвященный тотчас же принял ее очень радушно, усадил за стол, велел подать кофе и закидал ее разными вопросами.
— Как это вы не боитесь, — сказал он ей, между прочим, — в таких летах (ей было тогда 32 года) пускаться в такое дальнее путешествие? Мой совет — выходите-ка вы лучше замуж, а я отыщу вам жениха хорошего.
Нечего ч говорить, как поразило такое предложение со стороны почтенного архиерея набожную странницу. Преосвященный позвонил и велел пригласить дожидавшегося у него в кабинете майора Федорова.
— Вот, — сказал преосвященный, — вы очень понравились майору Федору Ивановичу, и он непременно хочет просить руки вашей. Мой отеческий совет — не отказывайтесь.
Преосвященный Исидор от себя вытребовал из Краснореченского ее метрику, и Александра Никифоровна вышла замуж за майора Федора Ивановича Федорова.
Проживши в Киеве с мужем, уже вышедшим в отставку, пять лет, она овдовела и воротилась на родину, но уже не застала в живых старца Федора Кузьмича.
На этом оканчивается удивительная история путешествий и замужества Александры Никифоровны. Вернувшись в Сибирь, она поселилась в Томске, где и скончалась в преклонном возрасте.
В том же 1857 г., когда Федор Кузьмич отправил свою любимицу в Россию, он познакомился с состоятельным томским купцом Семеном Феофановичем Хромовым, который настолько увлекся старцем, его разговорами, советами, что построил на своей заимке (ч 4 верстах от Томска) отдельную келью и убедил Федора Кузьмича переехать туда. 31 октября 1858 г. старец распростился с Зерцалами и окрестными деревнями, где он в общей сложности прожил около двадцати лет, и переселился к Хромову.
Перед отъездом он перенес из своей кельи в часовню образ Печерской Божьей Матери (привезенный ему одной из его учениц — Натальей Яковлевной Поповой) и Евангелие. В день своего отъезда он заказал молебен, на котором присутствовали местные крестьяне, и после молебна поставил в часовне раскрашенный вензель — букву А с короной над ней и летящим голубем вместо перечерка.
— Храните этот вензель пуще своего глаза, — сказал он при этом крестьянам.
По другой версии (священника Тыжнова), старец при оправе иконы в рамку вложил букву А, сказав при этом:
— Под этой литерой хранится тайна — вся моя жизнь. Узнаете, кто был.
Эта икона, так же как и вензель, хранится по сию пору в часовне деревни Зерцалы (Ачинского округа).
Приведу, опять-таки со слов современников и лиц, знавших таинственного старца, некоторые подробности о последних шести годах его жизни, проведенных у Хромова.
Чиновница Бердяева приехала в Томск искать себе квартиру в семейном доме; ей указали на дом Хромова. Придя туда, Бердяева встретилась со старцем и, вскрикнув, упала в обморок. Старец сказал хромовским работникам: «Приберите эту женщину».
Ее унесли и привели в чувство. После этого старец сказал Хромову: «Не пропускайте эту женщину сюда».
Впоследствии Бердяева рассказывала, что в старце Федоре она узнала Александра I.
Томский мещанин Иван Васильевич Зайков рассказывал посланному великого князя Николая Михайловича, Н. А. Лашкову, следующее.
В 50-х и 60-х годах в Томске жил советник губернского суда Лев Иванович Савостин. Он часто посещал старца и раза два приводил туда Зайкова.
«Старец был глуховат на одно ухо, потому говорил немного наклонившись. При нас во время разговора он или ходил по келий, заложив пальцы правой руки за пояс, как это делают почти все военные, или стоял прямо, повернувшись спиной к окошку. Придя в келью и поздоровавшись со старцем издали, мы молча садились. Старец первый предлагал вопросы, а Савостин отвечал на них. Во время разговоров обсуждались всевозможные вопросы: государственные, политические и общественные. При обсуждении первых Савостин становился перед старцем в почтительную позу и не переменял ее, пока такой разговор не прекращался; в таком случае старец только приказывал, а Савостин только слушал. Говорили иногда на иностранных языках и разбирали такие вопросы и реформы, как всеобщая воинская повинность, освобождение крестьян, война 1812 г., причем старец обнаруживал такое знание этих событий, что сразу было видно, что он был одним из главных действующих лиц. Позднее все эти вопросы осуществились так, как о них говорил старец».
Эти показания Зайкова вполне подтверждаются рассказами Ивана Григорьевича Чистякова, хорошо знавшего старца.
«Старец хорошо знал иностранные языки, современные ему политические события и современное ему высшее общество. Рассказывая крестьянам или своим посетителям о военных походах, особенно о событиях 1812 г., он как бы перерождался: глаза его начинали гореть ярким блеском и он весь оживал; сообщал же он такие подробности, вдавался в описание таких событий, что, казалось бы, он сам вновь переживал давно прошедшее время. Например, рассказывал он о том, что когда Александр I в 1814 г. въезжал в Париж, под ноги его лошади постилали шелковые платки и материи, а дамы на дорогу бросали цветы и букеты; что Александру это было очень приятно; во время этого въезда граф Меттерних ехал справа от Александра и имел под собой на седле подушку… Когда в России появилась ложа масонов, Александр сделал заседание из высших духовных и светских лиц с целью обсудить вопрос, следует ли допустить эту ложу в России или нет. «Александр, — заметил старец, — не был ни еретиком, ни масоном».
В этом рассказе Чистякова любопытна, между прочим, следующая деталь: знаменитый австрийский канцлер Меттерних известен вообще под своим княжеским титулом, и только лицо действительно хорошо знакомое с событиями и лицами начала XIX столетия могло в глухом местечке, где-то в Сибири, знать, что Меттерних носил титул графа, хотя, впрочем, при вступлении союзников в Париж он уже пять месяцев как был возведен в княжеское достоинство.
Некто Скворцов, который жил невдалеке от кельи старца, рассказывал следующее:
«Жили у него два ссыльных, бывшие истопники царские. Один из этих истопников заболел и второй пошел к старцу попросить его молитвы. Истопник, войдя в келью старца, бросился перед ним на колени и, опустив голову и дрожа от страха, начал рассказывать о цели своего посещения старца. Старец слушал его, стоя у окна спиной, а лицом к истопнику, и не перебивал его. Окончив свой рассказ, истопник смолк и слышит, что старец приближается к нему, и чувствует, как он обеими руками поднимает его с колен и одновременно слышит и не верит своим ушам — чудный, кроткий, знакомый ему голос:
— Успокойся.
Встает, поднимает голову и, взглянув на старца, с криком, как сноп, валится на пол и теряет сознание: перед ним стоял и говорил сам император Александр I со всеми его отличительными характерными признаками, но только уже в виде седого старца с длинной бородой».
Ольга Максимовна Балахина рассказывает:
«Однажды я пришла в келью старца Федора Кузьмича и увидала в ней Семена Феофановича Хромова, который из ящика с вещами старца вынимал какие-то бумаги и, взявши одну из них, сказал мне: «Старца называют бродягой, а вот у него имеется бумага о бракосочетании императора Александра Павловича с императрицей Елисаветой Алексеевной. Бумага эта была синеватого цвета, толстая, величиной в целый обыкновенный лист бумаги. На бумаге некоторые строки были напечатаны, а некоторые писаны. Помню, что в этой бумаге Александр I назван еще великим князем. Внизу листа находилась черная печать с изображением церкви. Что это было так, я готова принять присягу хоть сейчас».
Г-жа Кручевская, жена этапного начальника на Красной речке, рассказывает, что 9 февраля 1862 г. Федор Кузьмич дал ей молитву «Тебе Бога хвалим», написанную старинным почерком на синей бумаге. Она поехала однажды в Гефсиманский скит, в Москве; осматривая в покоях митрополита Платона развешненые письма многих императоров, при взгляде на письмо Александра I ее поразило сходство почерка Александра с почерком той молитвы, которую Федор Кузьмич дал ей.
А. С. Оконишникова рассказывает:
«Раз я видела, как из кельи старца Федора Кузьмича в его сопровождении вышла молодая барыня и офицер в гусарской форме, высокого роста, очень красивый, похожий на покойного наследника Николая Александровича (старшего сына императора Александра II). Федор Кузьмич проводил их довольно далеко и, когда прощались, мне показалось, что гусар у старца поцеловал руку, чего он никому не позволял делать. Вернувшись, Федор Кузьмич с сияющим лицом сказал: «Деды-то как меня знали, отцы-то как меня знали, дети-то как меня знали, а внуки и правнуки вот каким видят».
Наталья Яковлевна Попова (уже упомянутая выше) спросила раз старца о его родителях, чтобы помолиться за них. На это старец ответил: «Это тебе знать не нужно. Святая Церковь за них молится; если открыть мне свое имя, то меня скоро не будет. Тогда Небесная восплачет, а земная возрадуется и возгремит… И если бы я при прежних условиях жизни находился, то долголетней жизни не достиг бы».
Мариамна Ивановна Ткачева, урожденная Ерлыкова, также старалась допытаться от старца, кто его родители. Он ответил: «Я родился в древах; если бы эти древа на меня посмотрели, то без ветра бы вершинами покачали».
Та же госпожа Ткачева приводит еще следующие слова старца: «Я в деньгах счета не знал, а когда в партии шел, тогда узнал гроши и копейки».
«Когда в 1812 г. входил француз в Москву, Александр приходил к мощам Сергия Радонежского и помолился ему со слезами; слышен был глас от угодника: «Иди, Александр, дай полную волю Кутузову, да поможет Бог изгнать француза из Москвы».
Кроме того, г-жа Ткачева подтверждает также приведенный выше, со слов г-на Чистякова, рассказ Федора Кузьмича о вступлении императора Александра I в Париж (без упоминания о Меттернихе).
Томская мещанка Клавдия Чернышева рассказывает, что при ней какая-то барыня спрашивала старца, откуда он родом, на что старец ответил: «Залетный воробышек, царский властелин».
Среди рассказов современников о старце следовало бы отвести значительное место «запискам» самого Семена Феофановича Хромова; но, к сожалению, Хромов, искренне или неискренне, по простоте души или из расчета, посвятил девять десятых своих записок всевозможным… чудесам, совершенным Федором Кузьмичем частью при жизни, а главным образом, после смерти. Тут и дар «провидения», и «исцеления», и «благоухания в келий», и «пламя над домом» в момент смерти старца, и «чудодейственная водица с зубка великого старца», и т. п. сообщения человека или наивно-верующего, или с корыстной целью добивающегося канонизации своего таинственного жильца. Хромов также делает весьма прозрачные намеки на то, что старец был никто иной, как Александр I, но руководящей мыслью его записок является не выяснение личности старца, а желание доказать необходимость причисления его к лику святых.
Я приведу ниже те два-три отрывка из этих записок, которые могут представлять некоторый фактический интерес, вообще же хромовская «запись» по вышеуказанным причинам не может считаться серьезным историческим документом.
Старец Федор Кузьмич скончался в своей келье около дома Хромова в 8 час. 45 мин. 20 января 1864 г.
Перед смертью он сказал жене Хромова на ее просьбу «объяви хоть имя своего ангела»: «Это Бог знает», а самому Хромову завещал похоронить его скромно («меня ты не величь»), подтвердил, что он «не монах» и, указывая на маленький мешочек, висевший у изголовья кровати, сказал: «В нем моя тайна».
Об этой «тайне» нам еще придется говорить.
Похоронен старец на кладбище Томского Алексеевского мужского монастыря. На могиле его воздвигнута в настоящее время часовня; в сооружении этой часовни принимали участие многие лица, среди которых и член Государственного Совета действительный тайный советник M. H. Галкин-Врасский. Надпись на кресте гласит: «Здесь погребено тело Великого Благословенного старца, Федора Кузьмича, скончавшегося 20 января 1864 года». Слова «Великого Благословенного» были потом по распоряжению томского губернатора г-на Мерцалова замазаны белой краской…
Относительно наружности старца, его одежды, а также обстановки его кельи имеются следующие достоверные сведения.
Роста он был высокого (2 аршина 9 или 10 вершков), широкоплечий, с высокой грудью; глаза голубые, лысый, но оставшиеся волосы мягкие и вьющиеся, борода длинная, черты лица правильные, красивые. Характер — мягкий, добрый, но вспыльчивый.
Одежда его состояла из длинной холщовой блузы, холщовых панталон, белых чулок и кожаных туфель. Темно-синий халат или черный кафтан, а зимой вылинявшая доха дополняли его незатейливый гардероб. Носовые платки имел он очень тонкие, чулки менял ежедневно. Чистоту соблюдал чрезвычайную, как в своей одежде, так и в своей келье. Обстановка всех его келий была одна и та же: стол, лежанка, два-три стула (самого примитивного образца) и по стенам несколько картин или гравюр религиозного содержания: иконы Божьей Матери и Александра Невского, виды монастырей, портреты некоторых духовных лиц, митрополитов, архиереев. На столе лежало Евангелие, Псалтирь, акафист Пресвятой Животворящей Троице, молитвенник (изд. Киево-Печерской лавры) и «Семь слов на кресте Спасителя».
Теперь я приведу несколько небезынтересных рассказов, относящихся к смерти таинственного старца, а также к обстоятельствам, имевшим место в последующие за его смертью годы.
Протоиерей Илья Иоаннович Изосимов рассказывал со слов Ф. Хромова, — что Федор Кузьмич всю свою жизнь тщательно скрывал ото всех свое настоящее звание, так что на прямой вопрос Хромова: «Молва носится, что ты, дедушка, никто иной, как Александр Благословенный, правда ли это?» ответил: «Чудны дела твои, Господи, нет тайны, которая бы не открылась». Это было накануне смерти старца, а на другой день, т. е. в самый день своей кончины, он сказал Хромову: «Панок, хотя ты знаешь, кто я, но ты меня не величь, схорони просто».
Статский советник Василий Семенович Садовников в бытность свою в Петербурге зашел в лавку, где продавались карточки всех князей и царей, и, увидав среди них карточку старца Федора, спросил продавца: «Почему эта карточка находится среди карточек царственных особ?» Купец ему ответил: «Так нам приказано, почему — мы не знаем».
Отец Илья Изосимов — опять-таки со слов Хромова — рассказывает о свидании Хромова с министром двора графом И. И. Воронцовым-Дашковым.
«В зале (у графа Воронцова) вокруг стола сидели восемь генералов. На вопрос, правда ли, что старец есть император Александр I, я ответил: вам, как людям ученым, это знать можно лучше меня; потом между нами завязался крупный спор. Одни говорили, что этого быть не могло, потому что история передает о болезни, смерти и погребении императора Александра I; другие же, наоборот, доказывали, что это все могло быть. Спор был продолжительный; дошло даже до того, что один из генералов сказал мне: «Если вы, Хромов, станете распространять молву о старце и называть его императором Александром I, вы наживете себе много неприятностей; я знаю, что Александра I в дальний путь провожали десять человек», стал называть их по фамилиям, но я мог запомнить только Дибича, Адельбер-га и Соломку, а других фамилий не упомню. Много было говорено здесь, но, по-видимому, ни к какому соглашению здесь не пришли. Тот господин, который приезжал за мной, сидел также среди генералов. Позже я узнал, что это был Рудановский. Прошло много времени, этот Рудановский пишет мне телеграмму в Томск: «Приготовьте мне квартиру», и, действительно, он вскоре приехал и жил у меня. Зачем он приезжал, осталось для меня тайной. Он постоянно бывал на панихидах в келье у старца Федора».
Иван Денисович Митрополов, служивший в Синоде при К. П. Победоносцеве, получил в подарок от барнаульского мещанина Е. Ф. Сдобникова книгу с надписью: «Книжица, заключающая в себе акафист Воскресению Христову и сказание об антихристе»; книгу эту, русскими буквами, но славянским слогом писанную, подарил, по словам Сдобникова, старец Федор одной благочестивой чиновнице в Томске; чиновница эта, проживая затем в Бийске, перед своей смертью в 1876 г. подарила эту книгу одной своей знакомой, келейнице Таисии, проживающей теперь в Бийске в собственном доме. Эта келейница в свою очередь подарила ее Сдобникову. И. Д. Митрополов в С.-Петербурге, в публичной библиотеке, сличал эту рукопись с некоторыми писаниями Александра I: оказалось, что некоторые буквы схожи. Был тут генерал Н. Ф. Дубровин, который сказал Митрополову: «Покажите мне эту книжку, я знаю почерк Александра I и тотчас же скажу, он ли писал это». Увидав первую страницу акафиста, Дубровин воскликнул: «Это писал Александр Павлович». Затем смотрел подлинные письма, заметки и пр., писанные несомненно рукой Александра I, сличал некоторые буквы; сходство есть, но видно, что в акафисте почерк изменен намеренно — одни и те же буквы писаны различно. А. Ф. Бычков (директор имп. публ. библ.) не согласился с Дубровиным.
Однажды старец был болен и лежал в больнице, которую посетил Клейнмихель; старец тогда постарался быть не узнанным им и скрылся.
И. Н. Зайков рассказывает, что глубокой осенью 1864 г. рано утром его посетили два незнакомца высокого роста военного сословия. Незнакомцы спросили его, знает ли он, где похоронен старец Федор.
«Когда я привел их в монастырь и указал им могилу, они, молясь, стали на колени, а затем тотчас же сказали мне, что я им больше не нужен. Я ушел из монастыря и больше их никогда не видал. Спустя некоторое время явилась вторая пара таких же незнакомцев, которая тоже вызвала меня указать могилу старца Федора; я и им указал ее, они же опять меня отпустили, не позволив их ждать. Наконец, ранней весной следующего, 1865 г., также таинственно явилась и исчезла новая пара военных незнакомцев».
Анне Семеновне Оконишниковой старец Федор подарил 50-й псалом, собственноручно им переписанный. Почерк старца, по словам г-жи Оконишниковой, весьма похож на почерк документов, несомненно писанных императором Александром I, виденных ею в Историческом музее в Москве. К сожалению, г-жа Оконишникова, всегда носившая при себе этот псалом, потеряла его недавно (в конце 90-х или в начале 900-х годов).
В семье Чистяковых сохранился печатный экземпляр молитвы старца. Вот эта молитва:
«Отцу и Сыну и Св. Духу. Покаяние со исповеданием по вся дни.
О, Владыко Человеколюбче, Господи Отец, Сын и Св. Дух, Троица Святая, благодарю Тя, Господи, за Твое великое милосердие и многое терпение, аще бы ни Ты, Господи, и не Твоя благодать покрыла мя грешного по вся дни и нощи, и часы, то уже бы аз, окаянный, погибл, аки прах, пред лицом ветра за свое окаянство, и любность, и слабность, и за вся свои приестественные грехи, а когда восхищает прийти ко отцу своему духовному на покаяние отча лица устыдихся греха утаих и оные забых и не могох всего исповедать срама ради и множества грехов моих, тем же убо покаяние мое нечистое есть и ложно рекомо, но Ты, Господи, сведый тайну сердца моего молчатися разреши и прости в моем согрешении и прости душу мою яко благословен еси во веки веков. Аминь».
Упомянутый выше г. Митрополов говорил директору императорской публичной библиотеки в С.-Петербурге А. Ф. Бычкову, что будто бы старец Федор Кузьмич исповедовал священнику тяжкий грех, что он участвовал в кончине императора Павла I, отца своего, и чтобы испросить у Бога прощение за это, решил взять на себя такой великий подвиг — удаление в Сибирь.
В заключение можно еще упомянуть, что Хромов приезжал в С.Петербург, видался, как выше уже было сказано, с министром двора графом И. И. Воронцовым-Дашковым, а также с обер-прокурором Синода К. П. Победоносцевым, государственным контролером Т. И. Филипповым и князем С. А. Долгоруким. Не цитирую рассказов Хромова, т. к. они не представляют особенного интереса; вкратце говоря, эти рассказы сводятся к тому, что упомянутые лица принимали его любезно и обнаруживали большой интерес к личности старца Федора Кузьмича; что он, Хромов, передал через К. О. Победоносцева императору Александру III шапочку и портрет, а также копию с оставшихся записок старца, за что удостоился высочайшей благодарности, и, наконец, что князь С. А. Долгорукий вполне допускал возможность отождествления Кузьмича с Александром I.
IX
Мы ознакомились со всеми документами и свидетельскими показаниями, касающимися старца Федора Кузьмича. Я не упомянул только такие, которым по их наивности или заведомой неискренности нет места в историческом исследовании. Впрочем, и эти, неупомянутые мной, документы единогласно свидетельствуют о тождестве Кузьмича с императором Александром. Что же можно вполне беспристрастно заключить из всего вышеприведенного?
Во-первых, что таинственный старец был безусловно человек очень образованный, воспитанный, прекрасно осведомленный в вопросах государственных, исторических (в частности — эпохи царствования Александра I); знает иностранные языки, когда-то прежде носил военный мундир, бывал при дворе, знал хорошо петербургскую жизнь, нравы, обычаи и привычки так называемого высшего круга.
Во-вторых, что он самовольно принял на себя обет молчания относительно выяснения своей личности; что он удалился от мира в целях искупления какого-то тяжкого греха, мучившего его всю жизнь; что, не принадлежа к духовному званию, он был очень религиозен, но не в «церковном» смысле слова, не в обрядовом, а именно в мистическом.
В-третьих, что ни одно показание людей, знавших его, не может служить возражением против догадки, что он был именно император Александр I; наоборот, все указания свидетельствуют в пользу такой догадки (я не говорю даже о тех, которые прямо без обиняков называют старца Александром).
В самом деле: наружность, рост, возраст, глухота на одно ухо, мозоли на коленях, манера держать руки или на бедрах, или одну за поясом, привычка принимать посторонних стоя, и притом почти всегда стоя спиной к свету (т. е. к окну), — все это указывает на несомненное сходство с Александром I.
В-четвертых, Федор Кузьмич несомненно вел с какими-то лицами обширную переписку, а с некоторыми даже шифрованную; стоит только вспомнить хотя бы удивительную историю Александры Никифоровны, ее пребывание у графа Остен-Сакена, ее встречу с Николаем I, ее замужество, подробные указания на разных лиц, данные ей старцем… Тут, кстати, следует заметить, что, несмотря на несомненность факта, что Федор Кузьмич вел переписку, — ни одна строка из этой переписки не стала достоянием истории; все письма как-то таинственно исчезали. Так, например, детям графа Д. Е. Остен-Сакена достоверно известно, что отец их переписывался со старцем и держал его письма в особом пакете, но пакет этот после смерти графа куда-то бесследно исчез, совершенно так же, как исчезали документы, касающиеся последних годов жизни Александра I.
Следует признать, что если тайна смерти императора была не особенно хорошо охранена, то тайна жизни старца была очень хорошо скрыта.
От Федора Кузьмича ничего не осталось, кроме его кельи у Хромова, на стене которой, как бессильный протест против тайны, висят рядом портреты императора и старца, да еще две записки, писанные Кузьмичем и о которых я буду говорить после.
В-пятых, нельзя не считаться с тем фактом, что четыре человека признали в старце императора Александра: солдат Оленьев, чиновница Бердяева, бывший придворный истопник и еще один солдат, шедший в партии ссыльных. Я привел пять «пунктов», наиболее обращающих на себя внимание, таких пунктов читатель может еще прибавить много, вчитавшись внимательно в цитированные мной документы. Но что, в сущности говоря, по моему мнению, является особенно интересным — это следующее.
Александр I «официально» умер в 1825 г. Слухи о том, что он не умер, возникли сейчас же; но так же быстро как они возникли, так же быстро они и заглохли. Через какой-нибудь год или два никто уже больше не думал о таганрогской драме. Проходит около сорока лет, и вдруг почему-то слухи не только возникают, но молва прямо указывает на какого-то сибирского отшельника и называет его именем умершего сорок лет перед тем царя. Почему? Как это могло случиться? Какие причины заставили где-то в глухом уголке потревожить давно забытую и похороненную тень?
Великий князь Николай Михайлович вспоминает по этому поводу Лжедмитрия I, Лжедмитрия II (Тушинского вора), Емельяна Пугачева и Степана Разина, указывает на то, что внезапная кончина наследника престола или самого монарха внушала всегда народным массам доверие к самым грубым проявлениям фантазии смелых авантюристов.
С этим до известной степени нельзя не согласиться; но такая точка зрения не может быть применена к Федору Кузьмичу; так еще, пожалуй, можно объяснить возникновение слухов по поводу смерти Александра I в Таганроге в 1825 г.; но ни Григорий Отрепьев, ни Пугачев не объявлялись сорок лет после смерти царевича Дмитрия или императора Петра III, а уже тем более не скрывали «тайны своего происхождения»; наоборот, они всячески оповещали о нем, urbi et orbi, именно потому, что они надевали на себя чужую личину.
Федор Кузьмич, наоборот, упорно хранил свою тайну: ни телесные наказания при допросе в Красноуфимске, ни увещания сибирских преосвященных, ни просьбы окружавших его в последние дни его жизни не заставили его раскрыть тайну его жизни, его прошлое, его настоящее имя.
Хотя С. Ф. Хромов и удостоверяет, что Федор Кузьмич — как мы видели выше, — так сказать, «полупризнался», что он император Александр, но я уже высказывал мой взгляд на показания Хромова.
Кстати. Лицо, о котором я уже неоднократно упоминал, не называя его, сделало мне такое возражение:
«Неужели вы допускаете возможность, что Александр I, если бы он был Кузьмичем, позволил бы себя высечь публично 20 ударами розог?»
На это я отвечу: а что же он, собственно говоря, мог другое сделать?
Неужели же через двенадцать лет после своей официальной смерти он должен был сказать при виде розог или плетей: «Не смейте меня бить. Я император Александр». Если бы он поступил так, то, наверное, ему никто не поверил бы, а наказание было бы удесятерено.
Кроме того, человек, решивший уйти от мира и приведший свой план в исполнение, т. е. переносивший в течение 12 лет всякого рода лишения и ограждавший свою тайну, неужели внезапно выдал эту тайну от страха быть высеченным? Чаша испытания и искупления выпивается до дна… тем более, что в данном случае нельзя было и поступить иначе. Сказать «Я — Александр I» можно, но как это доказать? Не сослаться же на императора Николая Павловича, который, хотя, конечно, и знал тайну своего брата, но не мог в силу чисто государственных соображений раскрыть ее.
К категории таких же, по-моему, наивных вопросов относится и следующий:
«Если Федор Кузьмич был Александр I, то где же он скрывался в течение 12 лет?»
Да там же, где он скрывался, если б он и не был Александром! Если можно было бы узнать, где скрывался Федор Кузьмич до 1837 г., то, само собой разумеется, многое могло бы быть выяснено более несомненно и документально.
Скажу больше: самый факт, что жизнь Кузьмича до 1837 г. осталась невыясненной, наводит на мысль, что и выяснять ее, вероятно, было нежелательно.
Во всяком случае вполне очевидно, что он скитался по разным монастырям и в особенности на юге России; на это указывает осведомленность, с которой он составил маршрут путешествия Александры Никифоровны. Проведя несколько лет в Южной и Центральной России, он переехал на север, где в конце концов и был арестован.
По поводу личности Федора Кузьмича не лишена интереса следующая догадка, приводимая великим князем Николаем Михайловичем.
Император Павел I в бытность свою еще наследником престола был в связи с Софьей Степановной Чарторыжской, рожденной Ушаковой, вышедшей впоследствии вторично замуж за графа П. К. Разумовского. От этой связи родился сын, получивший имя Семен Афанасьевич Великий. О нем известно следующее.
Восьми лет его поместили в С.-Петербурге в Петропавловскую школу и, «чтобы он не догадался о причине этого предпочтения», ему выбрали в товарищи неважных лиц». По окончании курса его перевели в Морской кадетский корпус, и 5 марта 1789 г. он был произведен в мичманы. Во время шведской войны С. А. Великий служил под начальством капитана Травакина и 28 июня был прислан к императрице Екатерине II курьером с донесением. Произведенный в лейтенанты, он, в числе других офицеров, был послан для усовершенствования в Англию и, служа в английском флоте, умер на корабле «Vanguard» в 1794 г., в Вест-Индии. По другим сведениям, он утонул в Кронштадте. Но по документам архива морского министерства, он скончался 13 августа на корабле «Vanguard» на Антильских островах.
Это — все. С другой стороны, известно, что графиня Остен-Са-кен, жена Дмитрия Ерофеича, была рожденная Ушакова, а также что в семье Ушаковых встречались имена Федор и Кузьма; некоторые Ушаковы даже назывались Федорами Кузьмичами. Сопоставляя все эти данные с тем фактом, что мать С. А. Великого была тоже из рода Ушаковых, возникло предположение — не был ли сибирский старец С. А. Великим.
Великий князь Николай Михайлович, приводя в своей книге эти данные, совершенно справедливо замечает:
«Здесь пока не имеется никаких данных, чтоб поддержать гипотезу».
Что касается меня, то я совершенно отрицаю правдоподобие этой гипотезы, даже не потому, что я лично признаю тождество Федора Кузьмича с Александром I, но просто даже на основании тех данных, которые мы имеем о С. А. Великом.
Сопоставим хотя бы известные нам даты.
С. А. Великий поступил восьми лет от роду в Петропавловское училище, по окончании которого перешел в Морской кадетский корпус. В 1789 г. он был произведен в офицеры. Павел I женился в 1776 г.; следовательно, рождение С. А. Великого не может быть отнесено позже чем к 1775 г., т. к. он родился до женитьбы цесаревича Павла. Приняв во внимание возраст его при поступлении в Петропавловское училище и год производства его в офицеры, надо предположить, что он родился в 1771 или 1772 г. — если не ранее, — т. е. за пять или за шесть лет до рождения Александра I. Иначе говоря, в 1864 г. ему было бы 93—92 года, что не соответствует возрасту Федора Кузьмича. Но это, так сказать, хронологические вычисления, на которые можно возразить: «А почему вы знаете, сколько действительно было лет Кузьмичу, когда он умер?»
Есть другие доводы, опровергающие всякую возможность отнестись серьезно к гипотезе о том, что сибирский старец мог быть С. А. Великим.
Во-первых, нет положительно никаких данных сомневаться в том, что лейтенант Великий утонул в Антильском море; архивы дают нам точную дату его смерти.
Во-вторых, если даже допустить, что Великий не утонул, а скрылся в 1794 г., то почему бы он это сделал? Александр I имел свои причины решиться на такой поступок — мистицизм, угрызения совести, усталость и т. п., но молодой лейтенант, который имел всю жизнь перед собой, жизнь и… карьеру, о чем мы можем судить по факту посылки его с донесением к Екатерине II, почему бы он вдруг решился «уйти от мира»? Да, наконец, как он фактически мог бы осуществить эту мысль? Симулировать смерть дома, в постели, будучи императором-самодержцем ,— нетрудно, но фиктивно утонуть в Антильском море, будучи офицером английского флота, невозможно.
В-третьих, предположив невозможное возможным и допустив, что С. А. Великий каким-то чудом умудрился исчезнуть и обратиться в Федора Кузьмича, не следует забывать, что это произошло 13 августа 1794 г. (день, когда он утонул), т. е. больше чем за два года до смерти императрицы Екатерины II, — поэтому он никак не мог бы обладать теми познаниями о политической, придворной, светской и военной жизни конца XVIII столетия и первой четверти XIX, каковыми, как нам известно, в изобилии обладал Федор Кузьмич.
Мне кажется, что вышеприведенных соображений вполне достаточно, чтоб категорически отвергнуть гипотезу о превращении С. А. Великого в Федора Кузьмича.
Теперь, прежде чем закончить мое исследование, я считаю своим долгом упомянуть еще о тех единственных автографах старца Федора Кузьмича, которые нам известны. Автографы эти — две записки, найденные в мешочке, висевшем у изголовья умирающего старца, про который он сказал: «В нем моя тайна».
Записки эти — короткие, узкие, лентообразные бумажки, исписанные с двух сторон.
На первой записке написано: на лицевой стороне:
«видишили накакое вас бессловесие счастие слово изнесе». на обратной стороне:
«Но егда убо А молчат П невозвещают»
На второй записке:
Эти две бумажки известны под названием «Тайны Федора Кузьмича»; кроме них, имеется еще один только автограф старца, известный под названием «Записи Федора Кузьмича». Интерес сосредоточен, конечно, на «Тайне». Многие исследователи старались разгадать ее, расшифровать.
Пробовал и я, но результатом моих стараний похвастаться не могу.
Во всяком случае, считаю долгом поделиться с читателями моими заключениями, ничего особенного не представляющими, но могущими, быть может, послужить материалом для более проницательных исследователей.
1) Первая записка, как на лицевой, так и на обратной стороне, ничего таинственного из себя не представляет. Это — отдельные фразы, более или менее понятные и во всяком случае к шифру второй записки никакого отношения не имеющие.
2) «Видишили на какое вас бессловесие (или «бессловесне», как читают некоторые толкователи) счастие слово (или «слава») изнесе».
Это можно понять так:
«Видишь ли на какое молчание вас обрекло ваше счастье и ваше слово (т. е. обещание)» или «ваша слава».
3) «Но егда убо А молчат П не возвещают».
Если согласиться с тем, что Федор Кузьмич был император Александр, то смысл этой фразы очень понятен: «Но когда Александры молчат, то Павлы не возвещают», т. е.: «Но когда Александр хранит молчание, то его не терзают угрызения совести относительно Павла».
4) Первая половина лицевой стороны второй записки представляет из себя, конечно, ключ к шифру, при помощи которого Федор Кузьмич, вероятно, вел переписку с какими-то лицами; вторая половина, т. е. «а крыются струфиан» — очень загадочна.
Я обратил внимание на следующее обстоятельство.
В вышеприведенной фразе шестнадцать букв; в «ключе» встречается то же число — шестнадцать знаков: не говорю букв, а именно — знаков, т. к. там дважды попадаются комбинации из двух букв, соединенных в один знак («ео», «зн»).
Затем меня заинтересовало слово «струфиан»; в «Толковом словаре» В. Даля я нашел следующее:
«Строус, страус, струе, струсь, струфь строфион… будут «селения сирином и селища струфионом» (Исайя)».
Пересмотрев «Книгу пророка Исайи», я нашел, что фраза эта взята из стиха 21 главы 13.
Опять-таки если согласиться с тем, что Кузьмич и Александр одно и то же лицо, то фразу «а крыются струфиан» можно прочесть: «Я скрываю тебя, Александр, как страус, прячущий голову под крыло».
5) Обратная сторона второй записки не представляет ничего другого, как только дату и, так сказать, адрес, т. е.: 26 марта 1837 г. (день, когда старец прибыл в Сибирь) «43 пар.» (43-я партия, с которой он прибыл), «в. вол.» (по всей вероятности — «Боготольская волость»; может быть, старец по ошибке, или описке, или незнанию поставил «в» вместо «б».
6) Буква «д», писанная так, как в «Тайне», очень характерна для почерка Александра I; обращает на себя внимание не то, что она писана как французское «g» — это часто встречалось в XIX столетии, — но что нижний завиток перечеркнут резким штрихом. По этому поводу на могу не отметить одной особенности в «записи» старца, писанной, безусловно, тем же почерком, что и «Тайна». В «записи» буква «д» писана иначе, т. е. с завитком кверху, причем завиток тщательно вычерчен с нажимом пера, как сделал бы человек не привыкший писать эту букву именно так.
Заканчивая мое исследование вопроса об императоре Александре I и сибирском отшельнике Федоре Кузьмиче, я, может быть, должен был бы написать еще несколько страниц патетического заключения. Но я думаю, что это излишне. Я привел все известные и доступные исследователю документы, сопоставил их, отметил все их особенности, высказал мое мнение, в искренности которого читатель, надеюсь, не усомнится, а затем — пусть каждый судит по-своему.
По-моему — император Александр I не умер в Таганроге, а удалился от мира и скончался в 1864 г. в образе Федора Кузьмича… В этом я убедился, изучая доводы и документы противников такой точки зрения.
1 мая (18 апреля) 1912 г.